Франция. Французское искусство
Французское Искусство. 1. Романская и готическая архитектура. Достоверная история французского искусства начинается только с эпохи средневековья, с XI в., ибо почти ничего неизвестно об искусстве времени каролингской династии, не говоря уже о более ранних периодах кельтской и франкской культур. На территории нынешней Франции сохранилось немало памятников, относящихся к более глубокой древности, но они принадлежат всецело истории античного искусства. К числу таких памятников относятся остатки храмов гальско-римского периода, главным образом на юге Франции, в Провансе и Дофинэ. Скульптурных фрагментов раннего средневековья найдено еще слишком мало, чтобы на основании их можно было строить какие-либо выводы. Среди античных сооружений особенной известностью издавна пользуется храм коринфского стиля в Ниме, получивший название «maison carée». Вместе с христианством Франция получила из Италии господствовавший там храмовой тип базилики. К сожалению ни одной из них не сохранилось до наших дней, но есть все основания считать именно базилику исходной точкой для дальнейшего развития французского искусства. Когда к концу Х в., вместе с ростом и укреплением городских общин и постепенной ликвидацией феодализма, впервые появилась уверенность в завтрашнем дне, во Франции, так же, как в Италии и Германии, после долгого промежутка началась оживленная строительная деятельность. Этот момент совпадает с нарождением нового стиля в искусстве, за которым упрочилось название романского (см.), указывающее на его связь с искусством Рима. Родиной романского стиля была северная Франция и Саксония. И тут, и там, почти одновременно, появляется ряд базилик, в которых северяне впервые вносят изменения, вызываемые условиями более сурового климата и нового жизненного уклада. Вместо плоского деревянного потолка появляется цилиндрический свод; хор и алтарь поднимаются над общим уровнем пола, и под ними получается новое помещение — крипта; боковые нефы, ранее оканчивавшиеся у средокрестия, на пересечении главного нефа с транссептом, продолжаются за ним, огибая главную абсиду; в восточной части к выступающим сторонам транссепта и обходному полукружию пристраивается ряд небольших абсид, усложняющих план и вносящих необычайную живописность во внутреннюю и внешнюю архитектуру хора. Особое внимание обращается на обработку западного фасада, на котором находят свое четкое выражение все основные конструктивные особенности здания. Все эти нововведения шли, главным образом, из северной Франции, откуда постепенно распространились на юг и перебросились в Италию. Наиболее значительными из архитектурных памятников Нормандии и Бретани XI в. являются церкви Mont-St.-Michel, Cerisy-la-Forêt, собор в Ле-Мансе и особенно две церкви в Кане — St.-Etienne и St.-Trinite (1066). В западной Франции, в областях Сентонж, Пуату, Турэни и отчасти Анжу, там, где проложила себе дорогу торговля великой Венецианской республики, а также на юге, в Оверни и Лангедоке, почти не встречается храмов в типе базилик: большинство их имеет в плане не обычную для базилик форму удлиненного латинского креста, а форму греческого креста, приближающуюся к квадрату, и все они покрыты одним или несколькими — большей частью пятью, куполами, — явный отзвук архитектуры собора св. Марка. Если план и общие массы заимствованы здесь из Венеции, то сторона чисто декоративная поражает необычайным своеобразием нигде в другом месте не встречающихся приемов и мотивов. Богатейшая фантазия местных скульпторов покрыла камни церковных порталов фантастическими плетениями невиданных растений, сказочных животных и всяких чудищ. В этих каменных коврах некоторые исследователи склонны видеть отдаленные отзвуки кельтской культуры. Среди этих памятников особенно выделяются церкви St.-Frout в Периге, собор в Ангулеме, Notre-Dame-la-Grande в Пуатье, St.-Emilion в Бордо, и церкви в Фонтевро, Солиньяке, Сульяке, Пети-Пале, Сиврэ и целом ряде других городов и местечек. Одним из самых замечательных было, видимо, здание аббатства St.-Aubin в Анжере, от которого уцелела только богато украшенная резьбой аркада, помещающаяся сейчас внутри префектуры. В Оверни надо отметить храмы Notre-Dame-du-Port в Клермоне и церковь в Ле Пюи в Лангедоке, грандиозное аббатство St.-Sernin в Тулузе, с его 9 круглыми абсидами. В Провансе и Дофинэ, где разбросано так много остатков античных построек, зодчие романского периода охотно заимствовали у древних строителей отдельные декоративные детали и общие приемы, что приводило к созданию таких полуклассических памятников, как St.-Trophime в Арле и церковь в Сан-Жилле. Тройной портал последней, несмотря на романскую общую идею, как бы собран из отдельных фрагментов античных сооружений, коринфских колонн, колонок и классических профилей. Только неожиданно врывающиеся в эту классику львы,, поддерживающие некоторые колонны, да скульптурные фризы выдают их романское происхождение. В храмах соседней Бургундии, где также есть остатки античных сооружений, наблюдается смесь элементов классических, южно-французских и северофранцузских. Расположенная в центре страны, Бургундия не только отразила в своей архитектуре все уклоны романского стиля, но и рано отметила одну из важнейших вех начинавшегося нового течения в искусстве Франции: в церкви аббатства в Везелэ (Vézelay), построенной в начале XII в., мы видим замечательное нововведение в конструкции сводов хора, знаменующее начало новой эры, смену романского стиля готическим (см.). Коробовой свод, введенный в употребление в период раннего романского стиля, постепенно начал уступать место выросшему из пересечения двух коробовых стрельчатому своду, получающему в конце XI в. всеобщее признание, благодаря его большей легкости и меньшему горизонтальному давлению на стены. Для придания своду еще большей легкости гениальный зодчий, оставшийся неизвестным, отважился возвести стрельчатый свод при помощи невиданного до того по своей смелости приема: вместо того, чтобы сооружать, как было принято до него, весь массив свода из крупных тяжелых камней, он возвел сначала стрельчатые арки, отвечавшие ребрам стрельчатого свода, и полученный таким образом каменный каркас из так называемых «гуртов» заполнил более легким камнем, в виде сводиков в междугуртовых промежутках. Самым ранним памятником, в котором этот прием имеет место, является пока церковь аббатства Мариенваль в Крепи ан Валуа, относящаяся еще к концу XI в. Бургундия повторяет, по обыкновению, удачную мысль северных соседей, ибо нововведение, вне всякого сомнения, шло из Иль де Франса, а в 1140 г. в том же Иль де Франсе, в Сен-Дени, известный аббат Сугерий строит уже не случайно, а вполне сознательно усыпальницу французских королей по этой новой системе, становящейся отныне общепринятой. Так родился готический стиль Европы, значительно позднее, через 100 слишком лет, проникший в Германию и другие страны и лишь по недоразумению считавшийся до недавнего времени созданием исключительно германского гения. Три периода, различаемые в истории готической архитектуры, периоды ранней готики, ее расцвета и упадка — отмечаемые для Германии датами 1225-1300, 1300-1420 и 1420-1500, — должны быть для Франции передвинуты по крайней мере на 125 лет назад. Эпоха раннего, «строгого» готического стиля начинается с конца XI в. и заканчивается 1180 г. Расцвет его совпадает с царствованием Людовика VII (1137—1180), выстроившего значительное число храмов. Из памятников этого стиля одним из самых ранних и в то же время достаточно четко выражающим новый дух времени является собор в Нуайоне, начатый в 1131 г. Дальнейшее развитие той же архитектурной мысли мы видим в соборе Парижской Богоматери (Notre-Dame-de-Раrіs), восточная часть которого выстроена в 1163—1182 гг. Своего расцвета французская готика достигает лишь в XIII в., в эпоху второго, так называемого «лучистого» стиля, style гауопnant — совпадающую с царствованиями Филиппа II Августа (1180—1223) и Людовика «Святого» (1226—1270). При первом из них были окончены, продолжены или вновь выстроены знаменитейшие соборы Парижа, Лана, Шартра, Буржа, Руана, Реймса, Амьена, Суассона, Дижона, Ле Манса, Камбрэ, Тура, Труа и ряда других. В них готика нашла свое высшее выражение, не превзойденное даже в отдаленной степени в других странах, культивировавших готические идеалы. Если к ним присоединить еще несколько несравненных шедевров, появившихся во Франции при Людовике Святом, Sainte Chapelle в Париже (1243-1251) и собор в Вове (1225-1269), то этим будет исчерпан перечень наиболее совершенных сооружений, созданных после античного мира. Впервые человечество после долгих исканий и блужданий создало искусство не менее логическое по своей конструкции и не менее прекрасное по своей художественной выразительности. Идея стремления ввысь, проникающая всю готику, была проведена вне пределов Франции с еще большей последовательностью и неуклонностью, но в жертву ей были принесены гармония и то несравненное чувство меры, которым отличается французская готика. Германские зодчие развивали до конца все архитектурные идеи, брошенные в мир расточительным французским гением шутя, походя, иногда почти в виде обмолвки. Уверовав в непогрешимость системы, немецкий мастер, не задумываясь, тянет все формы вверх, почти не перебивая их горизонтальными линиями. Этот иступленный вертикализм, не уравновешиваемый ничем, вносит беспокойство и наскучивает. В Миланском соборе, типичном произведении германского вкуса, лес башен, башенок и фиалов совершенно заслонил всю конструкцию здания: из-за его декоративной перегруженности затерялся его архитектурный остов. Не то мы видим во французской готике. Фасады всех знаменитых соборов построены на необыкновенно искусном соотношении вертикальных и горизонтальных линий; ясно выраженное стремление вверх нигде не утрировано, мысль как бы недосказана до конца, чувство меры заставило во время остановиться художника-строителя, вводящего в противовес архитектурным массам, бегущим вверх, членения, идущие горизонтально. Фасад парижской Notre-Dame являет неувядаемый пример гармонии отдельных частей, изумительного чувства пропорций, конструктивной логики и мудрой умеренности в применении чисто декоративных элементов. Фасад Реймсского собора, начатого постройкой в 1212 г. мастером Робером де Руси, представляет дальнейшую стадию развития той же идеи стремления вверх. Это стремление получило здесь гораздо более определенное выражение, будучи подчеркнуто остроконечными завершениями порталов и ниш со статуями во втором и третьем ярусах. Однако, решительными горизонтальными делениями зодчий снова уравновешивает стремительность несущихся в вышину линий и форм, создавая впечатление покоя, подобающего этой величавой, застывшей сказке.
Датировка готических храмов Франции представляет существенное затруднение ввиду того, что все они строились долгое время, по меньшей мере 100, а иногда и 200 лет, прежде чем получили свой окончательный облик. Расположив их все же в возможной хронологической последовательности, мы получаем поучительную картину развития отдельных приемов, форм, декоративных мотивов и роста мастерства, показывающую, как (один зодчий перенимал у другого удачную выдумку, тут же улучшая и совершенствуя. Так, автор Ланского собора, увеличив пропорционально центральное круглое окно фасада, так называемую «розу», и не имея возможности провести над ним прямой непрерывной горизонтали, повышает последнюю в средней части трехчленной фасадной композиции и получает этим путем вместо прямой слегка ломаную линию. Этот прием, в Лане еще достаточно примитивный, зодчий Реймсского собора утончает, придав ему характер менее случайный и почти закономерный. К концу XIII в., когда в Германии готика пускала еще только свои первые корни, во Франции эволюция ее фактически завершилась. Казалось, что было произнесено последнее слово, осуществлены последние возможности и двигаться дальше было некуда. Наступает естественное затишье в строительстве, остановленном к тому же и бесконечной войной с Англией. В продолжении почти 150 лет не было возведено ни одного значительного сооружения, и лишь с воцарением Карла VII (1422-1461) начинается новое строительное оживление. В течение 80 лет, протекших е этого момента до начала XVI в., Франция явила миру последнюю вспышку стиля, казалось, угасшего навсегда. Стиль этого третьего периода готики известен под названием «пламенеющего стиля» - style flamboyant — от пламеневидных завершений его башенок. Среди ранних памятников этого стиля, имеющих переходный характер, больше других выделяются St.-Ouen и St.-Maclon в Руане, St.-Maurісе в Лилле и St.-Vulfram в Аббевиле. Из памятников расцвета стиля должны быть, прежде всего, отмечены постройки величайшего его мастера Мартина Шамбижи, автора чудесного транссепта собора в Сансе (1489-1513), ажурного северного транссепта в Бове (1506-1537) и известной парижской башни St.-Jacques (1508-1522). «Пламенеющим стилем», игривым, остроумным, утонченным, быть может, слишком дробным, но неизменно живописным, заканчивается последняя страница истории французской готики. Следует лишь упомянуть о наиболее замечательных гражданских сооружениях готического стиля, таких, как замки Лош, Шоман, Пьерфон, дворец в Авиньоне, ратуша в Компьене, госпиталь в Анжере и дом Жака Кер в Бурже, XV в.
2. Романская и готическая скульптура. Главным украшением романских и готических церквей была скульптура, покрывавшая обычно все порталы и частью наружные стены, а внутри храма сосредоточивавшаяся на капителях пилонов. Неся служебную роль, эта скульптура, особенно в раннюю эпоху, была в полном подчинении у зодчего и, естественно, не могла развиваться столь же свободно и закономерно, как архитектура. Можно различать три главных периода в истории французской скульптуры ХІ-ХV вв.: период раннероманский, с заметным уклоном в сторону античных традиций, особенно на юге Франции, изобилующем памятниками классического искусства, период новых исканий и оформлений, совпадающий с позднероманской и раннеготической культурой (ХІ-ХІІ вв.), и период расцвета (ХIII-ХIV вв.). Наиболее яркими образцами скульптуры первого периода являются те, которыми обильно украшены порталы St.-Trophime в Арле и церкви в Сен-Жилле. Не только чисто архитектурная декорация повторяет здесь целиком античные ионики, перловые шнуры, листья и меандры, но и самая скульптура, особенно главные, крупные статуи в колонных портиках Арльского собора кажутся прямыми сколками с классических скульптур. Дальнейшая эволюция скульптуры шла по линии удаления ее от античного прообраза, причем попутно она переживает уклон, аналогичный тому, которым отмечена история ранне-христианского искусства: античные отголоски сочетаются с новым «варварским» стилем, видоизменяющимся в зависимости от местности и несколько различным на западе, севере и в центре Франции. Так, сильно отличается от других скульптура храмов, стоящих на торговых венецианских путях, — в Муассаке, Сульяке, Тулузе. В противоположность большинству одновременных французских скульптур, они отличаются более тщательной отделкой и свидетельствуют о влиянии иноземной культуры, как это определенно видно на рельефах Сульякского и Муассакского храмов. Отдельные композиции в них выдают, однако, с головой «варваров», силящихся освободиться от всяких влияний и умеющих сказать свое слово. Таков сложный скульптурный пилон в Сульяке, скомбинированный из птиц и животных. Там, где были сильны пережитки кельтской культуры, скульптура насыщена богатейшей фантастикой, как мы видим в Анжере, на остатках аббатства St.-Aubin. Примером скульптуры второго, переходного периода могут служить те, которые украшают ранние порталы Шартрского собора. При реально трактованных индивидуальных головах, руках и ногах, их «классические» одежды до последней степени условны и исполнены по одному шаблону. Жизненные складки появляются только в периоде расцвета, падающем на XIII и XIV вв., когда один за другим были достроены и украшены скульптурой знаменитейшие соборы Франции. Первой по времени была скульптурная декорация фасада Notre-Dame в Париже, относящаяся к 1208-1223 гг. Идея этой декорации, основанная на сопоставлении крупных фигур нижней части портала с мелким масштабом его верхней части, была перенята строителями всех последующих храмов, на фасадах которых она получила дальнейшее развитие. Сюжеты ранних скульптур ограничивались только библейскими и евангельскими событиями, но постепенно их круг расширялся и стал чрезвычайно разнообразным. Появились изображения аллегорические, фантастические и заимствованные из басен. В период расцвета скульптуры исключительное внимание уделяется мадонне, образ которой получил уже в скульптуре, непосредственно следовавшей за декорацией Парижского собора — в статуе Амьенского собора, знаменитой «золотой мадонне» (1230—1240 гг.), — одно из самых вдохновенных выражений, оставленных нам готическим искусством. Наивысшего своего выражения готическая скульптура достигла в декоративном убранстве Реймского собора, созданном в 1375-1430 гг. Круглые статуи нижней части главного портала, по своему реализму, счастливо сочетающемуся с декоративностью, по чувству, вложенному в эти лица, позы и жесты, могут быть сравниваемы с шедеврами классического искусства, ибо они принадлежат к лучшему, что создано человечеством в этой области.
3. Романская и готическая живопись. Во Франции не сохранилось ни одного памятника монументальной живописи каролингской эпохи, и древнейшими из них являются стенописи XI—ХII вв. Но и они единичны, как редки и росписи готической эпохи: то, что счастливо уцелело от религиозных междоусобиц, было уничтожено во время революции. К тому же и фрески, дошедшие до наших дней, в большинстве случаев настолько искажены позднейшими записями, что трудно судить об их первоначальном виде по нынешнему состоянию. Самые ранние из них — стенописи капеллы в Лиже (Indre-et-Loire), церкви в Montoire (Loire-et-Cher) и капелла аббатства Saint-Chef (Jsère) — обнаруживают еще вполне определенный византийский уклон, говорящий о том, что французская живопись предшествующих веков развивалась, видимо, под непосредственным влиянием византийского искусства, подобно итальянской и немецкой. От этого влияния свободны уже стенописи церкви Saint-Savin в Пуату и крещальни Saint-Jean в Пуатье. Написанные в конце XI или первой половине XII в., они трактуют вполне свободно и по своему, хотя и грубовато, как целые композиции, так и отдельные фигуры и складки их одежд. В эпоху готического стиля стены большинства храмов были покрыты внутри росписью, позднее уничтоженной или забеленной. Из числа их следует отметить те, которые уцелели в Амьенском соборе за пристройкой ХIII века. Из фресок XIV в. сохранились фрагменты в соборе Клермона, Тула, Ле Манса, Лиможа и Тулузы. Из произведений живописи древнейшей эпохи гораздо больше сохранилось в области миниатюры. Ранее других стран Ирландия отрешилась в миниатюре от византийских традиций; отсюда этот кельтский стиль был занесен ирландскими монахами в Англию, Франции и, наконец, в Германию. Видоизменившись в разных странах под перекрестным влиянием античных, византийских и местных элементов, он выработался в тот общий романский стиль, который отличается сравнительно незначительным национальным уклоном. Из наиболее выдающихся иллюминованных рукописей, исполненных во Франции, следует отметить «Les heures de Charlemagne» мастера Годескалька, 781 г., в Парижской национальной библиотеке, и золотую псалтирь в городской библиотеке Трира. Начиная с конца IX в., техника миниатюры во Франции заметно падает и поднимается только в XII в., когда появляются такие блестящие рукописи, как связанные с именем Людовика IX псалтирь и часослов Парижской библиотеки. Любовь художников к ритмическим построениям и яркому цвету нашла еще один выход: в годы понижения мастерства миниатюры во Франции возникла и расцвела новая художественная техника — живопись по стеклу, занявшая вскоре одно из самых видных мест в жизни искусства и приведшая к созданию величайших ценностей. Один из раннейших образцов живописи по стеклу — окна St.-Rémi в Реймсе, собора в Ле Мансе и аббатства в St.-Dénis, относящиеся к Х и XI векам. Высшего расцвета эта живопись достигла в XII—XIII веках, в замечательных оконных композициях соборов Шартра, Буржа, Реймса, Руана, Тура и Sainte-Chapelle в Париже. Несколько позднее появилась еще одна техника живописи - эмаль, сначала довольствовавшаяся грубыми народными пересказами различных популярных композиций, но со временем нашедшая свой собственный живописный язык и свое содержание. Особенного развития она достигла в XVI в. в Лиможе, где Франциском I был основан специальный завод, исполнявший его заказы. Во Франции довольно поздно, по сравнению с Германией и Италией, создались условия, благоприятствовавшие развитию станковой живописи, но все же в XIII мы уже знаем целый ряд имен художников, а от XIV в. до нас дошли вполне достоверные и частью даже датированные произведения французских мастеров. До недавнего времени о них не было почти никаких сведений, и лишь энергичные розыски, произведенные в древних архивах, извлекли из забвения не только отдельные имена, но и целые художественные школы и направления. В XIV в. мы видим во Франции четыре самостоятельных школы: Парижскую, Бургундскую, Южную и Турэнскую. Парижская школа, насколько можно судить по сохранившимся произведениям, бесспорно созданным парижскими мастерами, была ярко реалистической, о чем красноречиво свидетельствует замечательный профильный портрет короля Иоанна Доброго, написанный Жираром д’Орлеан в 1359 г. Представителем той же школы является Поль из Лимбурга, автор всемирно известных миниатюр «Les très riches heures du due de Berry», в музее Шантильи. Исполненные им вместе с 2 братьями в конце XIV в. миниатюры эти трактуют человека, животных и пейзаж с таким чувством жизненной правды, какого в то время не было ни в одной из европейских художественных школ; здесь нет ничего условного, нет шаблона, канона, все полно наблюдательности и трогательной любви к повседневности; перед нами Сена, старый Париж, окружающие его предместья и леса. Когда английское вторжение заставило парижан бежать, французских художников собрал к своему двору бургундский герцог Филипп Смелый, основавшийся с 1363 г. в Дижоне. Эти приезжие парижские мастера образовали здесь школу, получившую название Бургундской. Реализм Парижской школы значительно смягчился в Дижоне, благодаря готическим традициям, особенно сильным в Бургундии и укрепившимся еще более работавшими здесь фламандцами. Из произведений Бургундской школы больше других выделяются части алтаря на сюжет «Жизни богоматери» в Дижонском музее, кисти Мишеля Бредерлама (Broederlam) из Ипра, «Положение во гроб» музея в Труа, работы Жана Мануэля и его же «Мучение св. Дениса» в Лувре, законченное уже его учеником Бельшоз’ом. Южная школа образовалась в Авиньоне, ставшем после переселения сюда пап крупнейшим художественным центром. Художественные слагаемые, приведшие к созданию Южной школы, весьма разноречивы, ибо к папскому двору стекались художники со всех концов Франции, из Фландрии, Германии, Испании - и Италии. Из этой международной смеси вкусов, расовых наклонностей и технических навыков к XV в. выработался своеобразный, нигде более не повторяющийся авиньонский живописный стиль. Лежащий в его основе реализм Парижской школы получил из Италии легкий налет идеализма, заложенный еще сиенским художником Симоне Мартини, выписанным в Авиньон папой Климентом V в 1339 г. Шедевр этой школы — «Положение во гроб» авиньонского госпиталя Villeneuve-lès-Avignon, недавно переданный в Лувр, — одна из самых потрясающих картин эпохи, счастливо сочетающая неприкрашенный реализм с необычайным пафосом. Имя автора ее пока не разыскано, но архивными данными удалось уже, безусловно, опровергнуть легенду о принадлежности картины кисти Яна ван Эйка. Вообще история открытия братьями ван Эйк техники масляной живописи и их влияния на все тогдашнее искусство Европы подлежит коренному пересмотру после новейших изысканий, сделанных в области раннего французского искусства, находившегося до сих пор в тени. Среди мастеров Южной школы есть еще несколько славных имен; прежде всего Ангерран Шарантон, написавший в 1453 г. «Венчание девы», находящееся в Авиньоне в том же госпитале. Любопытный документ — точное описание всего того, что художнику было заказано изобразить на картине — дает редкую возможность заглянуть в рабочую комнату французского мастера из его взаимоотношения с заказчиком. Все, до мальчайших подробностей, до деталей пейзажа, было оговорено этим последним. Того же автора — «La vierge protectrice des Cadard», в музее Шантильи. Другое крупное имя — Никола Фроман, автор картины галереи Уффици во Флоренции — «Воскрешение Лазаря», датированной 1461 г., еще немощной и мало выразительной, и вслед затем таких блестящих композиций, как триптих собора в Эксе, «Пылающий терновник» (1475), «Благовещение»; там же и триптих парижского дворца юстиции, недавно переданный в Лувр, с единственной панорамой Лувра в XV в. Турэнская, или Луарская, школа основана художниками, бежавшими из Парижа во второй половине XIV в. вместе с двором на берега Луары. Здесь, вдали от неприятельских нашествий и вечных битв, жизнь протекала тихо и мирно, и этот мир и покой отразились на произведениях всей школы, носящей печать уравновешенности и довольства. Главным мастером школы был Жэан Фуке, родившийся около 1415 г. и в 1447—1450 гг. бывший в Италии, где он написал портрет папы Евгения IV, произведший на современников сильное впечатление, но не сохранившийся до наших дней. Фуке был первым французским портретистом большого стиля, и его портреты почти на 100 лет предваряют портреты Гольбейна. Один из них, портрет Этьена Шевалье с его патроном ев. Этьеном (Стефаном) в Берлинском музее, остался непревзойденным по смелости композиции, остроте инвенции и широте живописной трактовки. Жизненный и свежий той особой свежестью, которая делает его созвучным нашей эпохе, он неувядаем, как все подлинные произведения гения. Вторая створка того же диптиха, изображающая «Богоматерь с младенцем», находится в Антверпенском музее. Из других портретов Фуке заслуживают особого внимания луврские портреты Карла VII и Ювеналия, «des Ursins». Величайший мастер портрета, Фуке был не меньшим мастером миниатюры, как о том свидетельствует исполненный им бревиарий того же Этьена Шевалье, в музее Шантильи. Однако, Фуке был не один; его младшим современником и последователем был даровитый автор луврских портретов Петра Бурбонского с женой и св. Магдалины с заказчицей, до сих пор еще значащихся в списке анонимных произведений XV в., хотя существует тенденция приписать их Жану Перреалю.
4. Искусство эпохи ренессанса, барокко и классицизма (XVI—XVIII вв.). Готический стиль есть детище Франции, тот вклад в историю мирового искусства, который Франция принесла человечеству. Стиль ренессанса есть неотъемлемое достояние Италии, — ее подлинный национальный стиль. Готический стиль, перейдя границы родившей его территории, быстро покорил все соседние страны, превратившись в общеевропейский стиль, бессменно господствующий на протяжении четырех столетий. Стиль ренессанса с еще большей быстротой совершил победное шествие по всему свету, ставши стилем мировым, каким он в значительной степени остается и до наших дней, все еще находящихся под его властным гипнозом. Элементы этого стиля мы неожиданно видим в таких, казалось бы, самодовлеющих и разнородных художественных напластованиях, какими являются искусства древнерусское, арабское, индийское и даже китайское, причем четкость этих элементов тем значительнее, чем меньше в искусстве той или другой страны национальной заостренности. Поэтому готическое искусство, нашедшее столь неистовый отклик в Германии, вовсе не нашло его в Италии. Поэтому итальянский ренессанс долго не находил отзвука в готической Франции, в которой продолжали строить «во французском стиле» еще во времена Микеланджело, успевшего преодолеть ренессанс и заложить первоосновы стиля барокко. Естественно, что в годы, отвечающие расцвету ренессанса в Италии, Франция должна была строить здания в стиле переходном, комбинируя приемы старые и новые. В таком переходном стиле выстроено большинство зданий, появившихся в начале XVI в. Лучшие образцы их — отель Клюни в Париже, портал герцогского дворца в Нанси, дворец юстиции в Руане и корпус Людовика XII в Блуа. Итальянские идеи были занесены во Францию, как приезжими итальянцами, так и французами, побывавшими в Италии. Карл VIIІ, вернувшись из похода на Неаполь в 1495 г., вывез из Италии в свою тогдашнюю луарскую резиденцию Амбуаз 22 художников и техников, которым поручил обстройку целого ряда городов Турэни-Блуа, Тур, Орлеан и др. Формы раннего ренессанса, в начале причудливо уживавшиеся с готическими пережитками, постепенно начинают брать верх, и в том же Блуа при Франциске I строится дворцовый корпус, носящий имя этого короля, в чисто итальянском вкусе, притом уже французским зодчим Жаком Сурдо, быть может, учеником первых итальянских мастеров Карла VIII, — Фра Джакомо и Доменико да Кортона. Нет ни одной постройки, могущей быть достоверно приписанной именно им, но участие последнего из них в сооружении корпуса Франциска в Блуа, парижской ратуши и в проектировании замка Шамбор не подлежит сомнению. Франциск I, развивший огромную строительную деятельность и перебравшийся, наконец, в Париж, предпринял в 1527 г. постройку большого загородного дворца в Фонтенбло, которую ведет опять французский архитектор Жилль ле Бретон. Он работает здесь до 1540 г., когда из Италии прибыл знаменитый Серлио, продолжавший постройку до 1547 г. Французскому зодчему принадлежит большинство строений Овального двора с галереей Франциска I, перистиль, капелла св. Сатурнина и бальный зал Генриха II; второму принадлежит крыло с двойным входом, прислоненным к сжатому корпусу, во Дворе фонтанов и некоторые части Овального двора. Одной из самых значительных построек этой эпохи был замок Шамбор, выстроенный Пьером Непве, прозванным Тренко (Nepveu Trinqueau), по модели Доменико да Кортона. Как этот замок, так и ряд других того же времени, особенно Шенонсо и еще более Ментенон, при всей своей ренессансной архитектурной одежде выдают средневековое происхождение внушительными крепостными башнями полуготического характера. Очаровательная постройка в стиле раннего итальянского ренессанса была возведена в 1523 г. на опушке леса Фонтенбло, — так называемый домик Франциска I, перевезенный в 1826 г. в Париж одним любителем старины, спасшим здание от грозившего ему разрушения. Ряд зданий стиля высокого ренессанса открывается грандиозным Лувром, начатым постройкой в 1546 г. Его архитектором был парижанин Пьер Леско (1515—1578), первое крупное имя в истории французской архитектуры послеготического периода. В 1546 г. в Париже уже работал Серлио, и если Франциск I, человек тонкого артистического чутья, предпочел его проекту проект 25-ти летнего Леско, это уже одно свидетельствует о его исключительной одаренности. И действительно, созданный им дворовый фасад западного крыла Лувра, украшенный знаменитыми скульптурами его друга и постоянного соработника Жана Гужона, — одно из лучших созданий эпохи. Леско принадлежат, кроме того, первый передний корпус южной стороны и так называемый Королевский корпус, на берегу Сены. Из других произведений Леско особенной известностью пользуются отель Карнавале и Фонтан невинных в Париже. Леско был главным архитектором королей Франциска I, Генриха II, Франциска II, Карла IX и Генриха III, но в его время выдвинулось еще несколько даровитых французских зодчих, среди которых особенно славились строители дворца Тюльери — Филипп Делорм (1515—1570), которому принадлежит проект дворца, Жан-Бюллан (Jean Bullant, 1510—1578), построивший угловой южный павильон после смерти Делорма, и Жак Дюсерсо (1556—1604), автор северного павильона. Из них наиболее крупной величиной надо признать Делорма, автора замков Saint-Maur-des-Fossés (ок. 1510 г.) и Anet (в 1550-х гг.), а также надгробного памятника Франциску I (1547). Архитектор с огромным практическим стажем, он был и выдающимся теоретиком, работая над большой книгой по архитектуре, оставшейся незаконченной, и сочинил особый «французский архитектурный ордер» — сложную, богато разделанную и орнаментованную ионическую колонну. Из построек Бюллана наиболее замечателен замок Экуан и малый замок в Шантильи. На рубеже XVI и ХVII вв. во Франции совершается тот поворот от стиля высокого Возрождения к стилю барокко, который в Италии наступил значительно ранее. Его лучшими выразителями во Франции были: Саломон де Бросс (1565—1626), автор Люксембургского дворца (1615—1620); Жак Лемерсье (1585—1654), автор Луврского павильона, носящего название «pavilion de l’horloge», крыла, завершающего все западные строения (1640), церкви Сорбонны (1629), церкви St. Roch в Париже, замка Ришелье (1631) и дворца Людовика XIII в Версале; Луи Лево (1612—1670), строитель трех павильонов фасада Лувра по набережной (1655—1663), первый строитель Версальского дворца Людовика XIV (1661—1670), малой галереи Тюльери (1661) и здания Французского института (1666); Франсуа Мансар (1598—1666) и его племянник Жюль Ардуэн Мансар (1646—1708). Франсуа Мансар был последним архитектором переходного стиля; его лучшая постройка, церковь Val-de-Grâce в Париже, столько же относится по своим формам к позднему ренессансу, сколько и к барокко. До середины XVII в. французские зодчие на все лады комбинировали итальянские приемы целиком, копируя колонны, карнизы и декоративные детали. Лево первый начал избегать той мелочности и дробности, в которую стало впадать строительство, заботившееся не столько об архитектурных массах, сколько об отделке фасадов. Ему первому наскучили вечные колонны, и он старается их избегать, отдавая предпочтение не перегруженной украшениями, а лишь крупно разрустованной стене. По этому пути пошел и Франсуа Мансар, один из одареннейших мастеров XVII в. Одновременно теоретики, Франсуа Блондель (1618—1686), Клод Перро (1613—1688) и др., переводя и приспособляя к новым запросам сочинения об архитектуре Витрувия, Палладио, Виньолы и Скамоцци, пытались извлечь из них вечные законы творчества. Не будучи архитекторами по призванию — Блондель был математиком, Перро врачом, — они все же создали несколько отличных проектов, которые были осуществлены: по проекту первого выстроена красивая триумфальная арка «Porte St.-Dénis» (1672), по проекту второго — эффектная Луврская колоннада (1667), которая была предпочтена проекту специально вызванного в Париж из Италии Бернини. Колоннада Перро своим явно выраженным классицизмом кажется совершенным анахронизмом в эпоху, когда в Италии и Германии воздвигались здания в стиле самого разнузданного барокко. Правда, Франция такого барокко не знала; тот художественный такт, то чувство меры, которые удерживали французских мастеров готики от всяких излишеств, удержали от них и мастеров французского барокко; самый крайний из них, Жюль Ардуэн Мансар, кажется классиком по сравнению с своими современниками других национальностей. Таковы его главный фасад Версальского дворца (1680), его большая лестница, конюшни (1685) и капелла там же (1696—1708), Grand-Trianon (1688), наконец, Дом инвалидов в Париже (1693-1706) и правительственная площадь в Нанси, с изумительно задуманными и выполненными колоннадами (1701). Все это — произведения большого стиля, притом стиля в высокой степени французского. Ни в одной стране, кроме Италии, ни такого художественного качества, ни столь высокого технического уровня не было. Богатая строительным камнем, прекрасным песчаником, Франция почти не знала штукатурки, вековые же традиции каменотесного дела не давали опускаться технике; оттого так тонки, изящны, так далеки от всякой кустарщины франко-итальянские фасады, а позднее чисто французские постройки. Устойчивость преданий сохранила даже в дни барокко излюбленные плановые приемы глубокой старины, и французская страсть к павильонам вошла целиком в павильонную систему XVII и XVIII вв., давая самобытные, типично французские решения.
Искусство Мансара младшего, достаточно своевольное на фоне строгих классических вкусов и еще более классических теоретических построений, было последней преградой, отсрочившей на целое поколение давно уже подготовлявшуюся смену архитектурных вкусов. Невиданный успех, выпавший на долю Луврской колоннады Перро, не привел к стилистическому перевороту только потому, что судьба противопоставила ему гигантское дарование и нечеловеческую строительную энергию Мансара; но стоило ему сойти со сцены, как идеи теоретиков и накопившийся запас новых чаяний и вожделений сразу нашли себе выход. Этот выход был найден, однако, только во внешней архитектуре: во внутреннем убранстве еще некоторое время господствовал особый декоративный стиль, родившийся хотя и в противовес стилю барокко, как реакция против него, но все же неразрывно с ним связанный и являющийся лишь некоторым оттенком его. Стиль этот есть стиль регентства, «style regence», получивший в Германии кличку «рококо», принятую и в России. Вся жизнь после смерти Людовика XIV стала иной: наскучило ханжество, вынужденная мрачность и деланная серьезность, потянуло на свободу, в лес, поля, на воздух. Одна крайность сменилась другой, и сдержанность уступила место разнузданности. Легкий, веселый, игривый декоративный стиль, построенный на причудливых плетениях и идущий от раковины, захватил всю парижскую знать, которая наперерыв стала заменять чопорное убранство своих роскошных отелей амфиладами комнат в новом вкусе, по проектам самых модных архитекторов и декораторов. Этими мастерами были: Оппенор (1672—1742), Боффран (1667—1754), Лассюрис (1695—1754) и Мейсонье (1695—1750). Грациозный стиль регентства, чисто французское детище, продержался ровно столько, сколько понадобилось для того, чтобы наскучить парижанам: через четверть века после его появления к нему в Париже уже почти не прибегают. Зато новый стиль подхватила вся Европа, и в некоторых странах он продержался до середины ХVIII в. Во Франции стиль регентства был стилем не архитектурным, а лишь чисто декоративным; в нем не строили, при его помощи только украшали внутренние помещения зданий, внешняя архитектура которых оставалась сдержанной и скромной, выдержанной либо в классическом духе, либо в тех формах, которые были выработаны поздним французским Возрождением и которые мы видим в петергофских постройках Леблона (1679—1719), приглашенного Петром Великим в 1716 г. в Петербург. В остальной Европе в этом стиле пытались и строить, хотя такие попытки только в редких случаях удавались. Когда эта последняя вспышка барокко угасла, его изломанные, беспокойные, нервные завитки должны были уступить место прямым линиям, ровным, спокойным плоскостям, чаще всего обширным гладям искусственного мрамора, пилястрам, колоннам и всему забытому со времени ренессанса набору классических профилей и украшений. Случайное, но знаменательное совпадение: в год смерти Мансара начались раскопки Геркуланума. Отныне властвует безгранично и безоговорочно античность, властвует так, как она не властвовала даже во времена Альберти и Браманте в Италии. Так же, как в эпоху ренессанса, архитекторы стремятся в Рим, чтобы изучать и обмерять классические древности, но скоро им уже мало Рима, — они едут в Неаполь, Сицилию и Афины. Переход от стиля Мансара к прямой классике должен был совершиться при посредстве промежуточного типа архитектуры, который и был дан итальянцем Сервандони (1695—1766), начавшим постройку церкви St.-Sulpice в 1733 г., и Ж. А. Габриелем (1698—1782), строителем Военной школы в Париже (1751) и площади Людовика XV, планировку которой и постройку зданий на ней он получил в качестве победителя конкурса, представленного 21 лучшими архитекторами Франции (1752). Последним же перестроен центральный павильон и северное крыло Версальского дворца, а также театральный зал в нем (1753—54). Переходным мастером был и Шарль Девальи (1729—1798), выстроивший вместе с Дейром театр Одеон в Париже (1779—1782). Первым ярким представителем завершенного классицизма был Ж. Ж. Суффло (1709—1780), автор Большого театра в Лионе (1756) и парижского Пантеона (1757—1780), одного из самых прославленных зданий своего времени. Хотя Суффло впервые отвлек внимание всего мира от остатков римской архитектуры, опубликовав в 1764 г. свои обмеры эллинских храмов в Пестуме, но сам он в своей собственной архитектуре все еще остается верным «римлянином», «витрувианцем». Однако, среди его младших современников вскоре выдвигаются лица, готовые забыть «сухой Рим» для «живописной и сочной Эллады». Романизм сменяется эллинизмом, провозвестниками которого были Мари Жозеф Пейр (1730—1788), Шарль Никола Леду (1736—1806) и Жак Гондуэн (1737—1818). Все трое были убежденными эллинистами, все много строили и все оставили литературные труды и увражи. Самым даровитым из них был Леду, оказавший огромное влияние на всю европейскую архитектуру конца XVIII и особенно начала XIX века. Из его построек наибольшей славой пользовались отель Гинар (1770—72), несколько отелей для г-жи Дюбарри (1772—7З), театр в Безансоне (1776) и парижские заставы. Необычайно популярно было и изданное, им в 1804 г. в гигантском томе собрание его построек и проектов. Из построек Гондуэна наибольшая известность выпала на долю Медицинской школы в Париже (1769—1786), изданной им в 1780 г. Эти увражи, вместе с «Oeuvres d’Architecture» Пейра (1765) воспитали подрастающее поколение в совершенно новом направлении «модернизованной классики», типичной для эпохи Директории и Первой Империи (стиль «ампир»). Желание уйти от Рима и приблизиться к Элладе соединялось с стремлением сказать во что бы то ни стало новое слово, что приводило к решениям невиданно смелым и почти фантастичным, особенно благодаря гигантскими масштабам юношеских архитектурных замыслов. Центром этого движения была. Парижская Академия Художеств (École des Beaux Arts), главными действующими лицами — ученики старших классов, работавшие над выпускными программами, так называемыми «рrіх de Rome». Опубликованные в начале XIX в. эти проекты вызвали множество подражаний во всех странах, но в то время как парижские фантазии остались только на бумаге, в Италии, Германии и России по их образцу строили. Сами французы, верные исконному чувству меры, не решались у себя дома возводить зданий, столь откровенно «голых», почти лишенных украшений, слишком живописных и мало архитектурных, предпочитая более сдержанные формы римского характера. Но когда те же французы попадали в другие страны, не знавшие французской сдержанности, они становились развязнее и создавали произведения, целиком выхваченные из этих альбомов «Grands рrіх». Так, эмигрировавший во время революции в Россию Тома де Томон (1754—1813) выстроил в Петербурге здание биржи (1805—13) и амбары Сального буяна (1804—5), которые кажутся прямыми копиями премированных проектов Французской Академии. Таких зданий во Франции не было, и самые дерзкие проекты после их осуществления оказывались суховатыми и приближающимися к римским традициям. Дорическая колонна Пестума, Селинунта и Парфенона заменялась коринфской, или, самое большее, ионической, обширных гладей стены всячески избегали, и декоративному убранству начали отводить весьма заметную роль во внешней и внутренней архитектуре. Наиболее известными архитекторами начала XIX в., любимцами Наполеона, были Персье (1764—1838) и Фонтен (1762—1855), ученики Пейра, долго работавшие вместе и выпустившие несколько увражей, пользовавшихся большой популярностью. Из их совместных работ известны библиотека дворца в Мальмезон (1800), триумфальная арка на Place de Carrousel (1805) и великолепная парадная лестница Лувра, уничтоженная при Наполеоне III. Персье вскоре стал хворать и мало строил. Из числа лучших его работ надо отметить гробницу княгини Альбани в Санта Кроче во Флоренции и усыпальницу французских королей на кладбище Ville-l’Evеque (1815—1826). Из современников Персье и Фонтена более других выделялись Шальгрен (1739—1811), представитель старшего поколения, строитель внушительной триумфальной арки на Place de l’Étoile (1806—1811), Виньон (1762—1828), автор церкви Madelaine (1806—1829) и Броньяр (1739—1813), автор парижской биржи (1808—1813).
Скульптура на протяжении XVI—ХVIIІ вв. прошла тот же путь, что и архитектура. Совершенно так же готические элементы долго еще обволакивали ренессансный стержень искусства, создавая формы переходного характера. Эпоха переходного стиля определяется для скульптуры датами 1483—1515, — воцарением Карла VIIІ и смертью Людовика XII. Ранним мастером этого стиля, причудливо сочетающего новые итальянские приемы с готическими традициями, был Жан Перреаль (1460—1528), живописец и скульптор, сопровождавший Карла VIII в Италию во время его похода на Неаполь. Достоверных его произведений не сохранилось, но он пользовался при жизни большим почетом и славой. Значительно больше известно о деятельности другого скульптора той же эпохи, по имени Мишель Коломб, родившегося около 1430 г. и дожившего до 1512 г. Его достоверные работы относятся к глубокой старости мастера: прекрасный луврский рельеф, изображающий св. Георгия, и надгробие Франциска II Бретанского и его жены в Нантском соборе. Трудно судить, являются ли они произведениями расцвета или упадка творческих сил автора, но они во всяком случае высшие точки, до которых доходило искусство переходного стиля во Франции В последнее время Коломбу, на основании соображений стилистических, приписываются и три известных мадонны его эпохи, — мадонна из Hôpital-sous-Rochefort, мадонна Оливе (в Лувре) и Vierge du Pilier, в церкви Saint-Galmier. С именем Коломба связывают еще одно замечательное произведение, быть может самое потрясающее из всех, созданных на тогдашнем севере Европы — «Положение во гроб» монастырской церкви в Солеме (Solesmes). Скульптор взял момент, когда Никодим и Иосиф Аримафейский, держа с двух сторон обеими руками плат с телом Христа, опускают его в гробницу. Сзади стоят богоматерь с Иоанном, а по сторонам их старик и две женщины. Спереди в скорбном раздумье сидит Магдалина. Вся группа исполнена с таким бесподобным реализмом, столь жизненно прочувствована, что ей трудно подыскать равную в этом отношении во всем искусстве Возрождения. Та двойственность стиля, которая свойственна веем произведениям этого переходного периода, носящего название раннего французского ренессанса, и в частности отличающая произведения Коломба, здесь налицо; в то время как фигура Никодима в восточном костюме, с головой, повязанной чалмой, с нарочито курчавой бородой еще сильно отдает готическим духом, фигура Иосифа прямо выхвачена из жизни — несомненный портрет, с головы до ног, от характерного лица до типичного костюма эпохи, взятых с натуры. В конце царствования Франциска I исчезают последние отзвуки готики, и для Франции открывается — с значительным опозданием по сравнению с Италией — период высокого ренессанса. На протяжении 70 лет, с 1540 по 1610 г., французская скульптура достигает высшего расцвета, связанного с именем трех ее величайших мастеров: Пьера Бонтана, Жана Гужона и Жермена Пилона. Пьер Бонтан, автор скульптур, украшающих надгробную арку Франциска I в St.-Dénis, сооруженную Филиппом Делормом, и урны для сердца короля там же, соединял в себе одновременно яркое дарование реалиста и декоратора. Его фигуры короля, королевы и их детей наверху арки полны жизненной выразительности и в то же время необыкновенно монументальны. Величайшим скульптором Франции не только ХVI в., но быть может всех времен, и в то же время одним из крупнейших мастеров в истории мировой скульптуры был Жан Гужон (родился в 1510, умер между 1564 и 1568 гг.). Первыми его работами, о которых сохранилось известие, были те, которые он исполнил в Руане, — орнаментальные скульптуры портала церкви St.-Maclou и надгробный памятник Людовику де Врезе в соборе, относящиеся к 1536—1541 гг. Портал — ясно выраженное и до конца продуманное произведение ренессанса, сравнительно с позднейшими работами Гужона не безупречное по рисунку и несколько мятое по лепке. Надгробие де Врезе, скульптурные части которого принадлежат не полностью Гужону, — значительно выше и зрелее; особенно прекрасны полуобнаженная фигура лежащего внизу умершего, конная статуя в круглой нише вверху и 4 кариатиды по ее сторонам. Последние уже определенно отмечены чертами, отличающими все французское искусство от итальянского: стройностью и некоторой удлиненностью фигур, французским типом лиц и специфически французской грацией. С 1542 г. мы видим Гужона в Париже, работающим долгое время в сотрудничестве с Пьером Леско, по предложению которого он исполняет ряд декоративных скульптур для St.-Germain l’Auxerrois. После сломки постройки в ХVIII в. 5 скульптур Гужона — 4 апостола и «Положение во гроб» — попали в Лувр. Изящные, чисто декоративные его работы сохранились в отеле Карнавале, переделанном из здания, выстроенного Леско в 1544 г. Они исполнены в таком же плоском рельефе, как и знаменитые 5 нимф с 10 фризами, украшавшие некогда фонтан, сооруженный Леско ко дню торжественного въезда Генриха II в Париж в 1549 г. и перестроенный позднее в нынешний «Фонтан невинных». С 1548 по 1562 г. Гужон всецело поглощен работой над скульптурным украшением Луврского дворового фасада, строившегося тем же Леско. К тому же времени относятся и 4 кариатиды из белого камня, поддерживавшие в одном из зал трибуну музыкантов. Между 1553 и 1559 гг. Гужон много работает в замке Анэ для фаворитки короля, Дианы де Пуатье, но все эти произведения были уничтожены во время французской революции, и только одно из них удалось спасти — всемирно известную Диану с оленем, одну из лучших жемчужин Лувра. После 1562 г. его имя уже не встречается в документах по луврской постройке: в качестве гугенота, Гужон должен был бежать из Франции в Италию, где и умер. Жермен Пилон (1535—1590), третий большой мастер французского высокого Возрождения, но сравнению с Гужоном являет уже признаки некоторого упадка стиля. Этим упадком отмечено даже лучшее его создание — «Три грации», в Лувре, заказанные ему Екатериной Медичи для урны с сердцем ее мужа Генриха II: реализм Гужона уступает место утонченным исканиям стиля, головы мало индивидуальны, форма вялая, складки не жизненны. Гораздо сильнее портреты Пилона, среди которых есть такие шедевры, как коленопреклоненная фигура Генриха II на его надгробии в St.-Dénis. С конца XVI в. начинается художественное паломничество французских мастеров в Рим, особенно усилившееся к середине XVII в. Одновременно в Париж стекается множество живописцев и скульпторов из соседней Фландрии, в свою очередь охваченной уже тогда всесильным влиянием итальянского барокко. Под этими перекрестными воздействиями постепенно слагается тот стиль, который, по неизменной французской привычке приурочивать все стили к соответствующим царствованиям, получил во Франции название стиля Людовика XIV. Из скульпторов этой эпохи следует отметить: фламандца Варена (Jehan Warin, 1620—1672), автора отличного бюста юного Людовика XIV в Версале, Симона Гиллена, автора статуй Людовика XIII и Анны Австрийской в Лувре, Саразена (1588—1660), автора гробницы Генриха Конде в Шантильи, Жирардона (1628—1715), автора надгробия Ришелье в Сорбонне, и Куазво (1640—1720), автора ряда надгробий — между ними кардинала Мазарини, — портретных бюстов (Кольбер, Великий Конде, Ришелье, Боссюэ) и декоративных скульптур (Конный Меркурий в саду Тюльери). Менее значительны братья Анокье и Лонгвиль. Но самым крупным из скульпторов эпохи короля-солнца был Пьер Пюже (1622—1694), стоявший головой выше всех своих современников. Архитектор, живописец и скульптор, он несколькими поездками в Италию расширил круг своих интересов и знаний, ставши одним из образованнейших людей своего времени. Его барельефный портрет Людовика XIV в Марсельском музее, с острым профилем надменной головы — вещь, непревзойденная в истории мировой скульптуры. Замечателен и автопортрет Пюже в музее Экса, по своей выразительности и трактовке мрамора напоминающий римские портреты. Из статуй его наиболее известны Милон Кротонский и Геркулес, в Лувре. Эпоха регентства вызвала к жизни легкое, грациозное искусство скульпторов-декораторов, среди которых заметно выделялся Ле Лоррен (1666—1743). Одновременно выработался тот изысканный, хотя и не слишком глубокий стиль, в котором работали свои статуэтки Бушардон (1698—1762), Лемуан (1704—1778), Пигалль (1714—1785), Клодион (1738—1814), Николай Кусту (1658—1743), Гильом Кусту (1677—1746) и Фальконе (1716 —1791). Монументальные скульптуры давались им труднее, и только последнему удалось создать памятник исключительно прекрасный — Петру Великому в Петербурге, если и уступающий великим конным монументам римских императоров, донателловскому Gatta Melata и вероккиевскому Colleoni, то все же бесконечно превосходящий тысячи конных статуй, сохранившихся от ХVIII в. на различных площадях европейских городов. Эпоха классицизма нашла своего выразителя в целой группе французских скульпторов, которые, однако, все вместе не стоят одного, Жана Антуана Гудона (Houdon, 1741—1828), величайшего скульптора Европы XVIII в. Получив в 20 лет Рrіх de Rome, он десять лет проводит в Италии, где создает для церкви St.-Maria degli Angeli экспрессивную статую св. Бруно. Гудон сохранил свое острое реалистическое чувство в дни расцвета классицизма, и среди всей европейской скульптуры той поры он один не уходил от натуры. Оттого так жизненна его Диана и так до сих пор живучи его портреты: Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Дидро, Бюффон, Мирабо, Глюк и ряд других. Считая, что портрет великого человека не может быть только слепком с натуры, а должен передавать последующим поколениям некий одухотворенный образ, Гудон старался вкладывать в наиреальнейшую оболочку духовный смысл данного лица. Когда он работал над портретом человека, давно умершего, пользуясь старыми гравюрами и рисунками, он трактовал его с тем же беспощадным реализмом, пользуясь для этого подходящей натурой. Так создан им Мольер в Comedie Française. Лучшим примером портрета одухотворенного может служить знаменитая статуя сидящего в кресле Вольтера. Из современников Гудона более других выделялся Пажу (1730—1809), автор луврской Вакханки и портрета Дюбарри.
Готические традиции оказались еще более живучими в живописи. По возвращении из итальянских походов армий Карла VIII, Людовика XII и Франциска I Франции была наводнена итальянскими мастерами, привезенными для водворения здесь «хорошего вкуса». Начинается глухая, упорная борьба между началами французским и итальянским, закончившаяся победой последнего. Позднее, в XVII в., французская стихия снова возьмет верх и приведет к двухвековой художественной гегемонии Франции над миром, но XVI век, столь великий в истории живописи в Италии и даже Германии, здесь не дал ничего, хотя бы приблизительно равного созданному там. Даже такая яркая ренессансная фигура, как Жан Кузен I (род. около 1500 г., умер около 1589 г.), прозванный современниками «французским Микеланджело», долго не мог отрешиться от средневекового художественного мировоззрения, как мы это видим на его исключительных по красоте и мастерству цветных окнах в соборе Санса (1530). В этих витражах он неизмеримо сильнее, чем в скульптуре, луврской статуе адмирала Филиппа де Шабо, и станковой живописи. К сожалению, мы слишком мало знаем о нем и его работах, несомненно, сохранившихся в различных музеях, но все еще выставленных под анонимами. Две картины, могущие быть с большей или меньшей достоверностью приписанными Кузену, — «Страшный суд» в Лувре и «Ева-Пандора» в Сансе, являются провинциальными отголосками школы Микеланджело и ни в какой мере не оправдывают репутации, выпавшей на его долю при жизни. Еще более провинциальны: Агжуан Карон (1520—1598), Дюбрейль (1561—1602), Фреминэ (1567—1619), Жером Франкен (1540—1610), Амбруаз Дюбуа (1543—1614). Последние два — фламандцы, как и самый знаменитый художник Франции первой половины XVI в., Жан Клуэ (1485—1541), деливший свою известность только с Перреалем. Об этих двух мастерах нам почти ничего неизвестно, но в то время как Перреаль был архитектором, скульптором и живописцем, Клуэ был только живописцем. Им создан тот род живописи миниатюрных портретов в технике темперы и расцвеченного карандаша, который вслед затем становится доминирующим во Франции на протяжении целого столетия и лучшими представителями которого были сын Клуэ, Франсуа Клуэ (1532—1572) и Воркейль де Лион, тоже нидерландец по происхождению. Художественное наследство, оставленное двумя Клуэ, далеко еще не выяснено: у них было столько последователей и подражателей, что разобраться во всех дошедших до нас портретах этой эпохи чрезвычайно трудно, и даже такое замечательное произведение, как луврский портрет Франциска I, не может быть с безусловностью приписан Жану Клуэ. Наиболее достоверная и значительная работа Клуэ младшего — луврский портрет Елизаветы Австрийской, очаровательная, уже чисто французская вещь. Сведения о жизни и творчестве Корнейль де Лиона еще более скудны и сбивчивы. Он был более живописцем по своей манере, чем Клуэ, любил цветистые фоны — голубой и синий, — признаки, по которым его нетрудно отличить от его современников. Но все эти художники были уже последними отпрысками умиравшего поколения, воспитанного еще в преданиях готики. Одновременно совершалось победное шествие итальянского искусства, проявившееся с исключительной силой после 1530 г., когда Франциск I выписал из Италии новую группу художников для украшения дворца в Фонтенбло. Ему не везло на итальянцев: приехавший по его приглашению во Франции в конце 1515 г. Леонардо да Винчи был стар и через 4 года умер, не создав здесь ничего; прибывший в 1518 г. Андреа дель Сарто уже в следующем году бежал обратно в Италию. В 1530 г. Франциску удалось получить лишь второстепенного флорентийского живописца-декоратора Россо (G. В. Rossi, detto il Rosso, 1494—1541), которого после смерти сменил Приматичьо (1504—1570), до конца проживший во Франции. Исполненные обоими мастерами росписи дворца погибли частью от пожара 1738 г., частью от последующих реставраций. Французские ученики их составили особую школу, известную в истории под именем школы Фонтенбло, не выдвинувшей, впрочем, ни одного яркого дарования, заслуживающего упоминания. В искусстве XVII в. приоритет продолжает сохраняться за Италией: она все еще обетованная страна, и Рим все еще святилище, куда стекаются художники всех стран. Естественно, что натурализм Караваджо, потрясший Италию, должен был затронуть и Францию. И действительно, искусство его озаряет вскоре своим отсветом французскую живопись в лице юного Жана Булоня, прозванного Валантэн (1601—1632). Плененный темами и мрачной манерой письма Караваджо, он так же неистово, размашисто, наскоро пишет нищих, пьяниц, игроков, залитых светом и утопающих в черных тенях. Но Валантэн остался единственным караваджистом в истории французской живописи, так как мрачность вообще несвойственна французам и так как его современники, работавшие в натуралистическом направлении братья Ленэн, меньше всего исходили от Караваджо. Происхождение их искусства, столь непохожего на все, что в то время создавалось во Франции, до сих пор остается загадочным. Младший из трех братьев, Матье Ленэн (1607—1677), мало отличался от других академистов, писавших на исторические и мифологические темы, но двое старших, Луи Ленэн (1593—1648) и Антуан Ленэн (1598—1648), работавшие всегда вместе, почему нет возможности отделить одного от другого, писали картины из крестьянской жизни, совершенно выпадавшие из общего типа тогдашних картин. Уже одни названия их произведений необычны для Франции того времени: «Возвращение с сенокоса», «Отдых крестьян», «Кузница». Все их картины написаны просто и искренно. Ни малейшего желания удивить, никакого жеста, никакой лжи, ничего надуманного, — бесхитростные сцены из повседневной жизни крестьян, написанные с простодушным желанием передать действительность так, как она есть. Тщетно мы будем искать у них задач чисто живописного или вообще формального характера, — эта сторона их мало заботила, и живопись их довольно бедна по цвету и жестка по форме. Но своей правдивостью в век лжи они создали себе неувядаемый памятник.
То нарастание пышности и торжественности, которым столь богата была жизнь Европы во второй половине XVI в., стало с начала XVII в. принимать небывалый оборот. Этому должно было отвечать аналогичное искусство, которое и заполнило весь XVII в., достигнув особенного расцвета во Франции, где для него создались исключительно благоприятные условия благодаря личности Людовика XIV. Как всякое искусство, оно выросло не вдруг, и его первой знаменательной вехой была живопись Симона Вуэ (1590—1649), живописца Людовика ХIII и его учителя — король сам баловался живописью, — плодовитейшего автора огромного числа картин на мифологические темы в Фонтенбло, Сен-Жермене, Лувре и Люксембурге, целой серии портретов, воспитателя двух поколений художников. Вначале он также не избежал влияния Караваджо, но вскоре пошел за болонцами Караччи, а позднее за Гвидо Рени. Вуэ много, слишком много видел, — был в Англии, путешествовал по Италии, ездил даже в Константинополь. Одаренный воображением, легкостью в работе и декоративным чутьем, он был скорее отрадным, чем отрицательным явлением в искусстве Франции, и перед некоторыми из его картин зритель не остается равнодушным и в наши дни. Но Вуэ был одним из первых художников, кисть которых начала стирать различие между ангелом и амуром, мифологией и Евангелием. От безразличия в сюжете был только шаг до безразличия художественного, но он был сделан позднее, когда из Вуэ вырос Шарль Лебрен, его ученик и почитатель (1619—1690), художник как бы созданный для того, чтобы состоять при Людовике XIV в роли верховного художественного режиссера эпохи, законодателя мод и распорядителя судеб искусства в течение целого полустолетия. Лебрен признавал только необычайное и грандиозное. Простое, незаметное и скромное его не привлекало, вернее он до него не унижался. Все его искусство есть отдаленный отзвук «титанизма», вызванного грандиозным явлением Микеланджело, измельченного его эпигонами. Сам Лебрен — тоже эпигон, но вера в истинность избранного пути, в сочетании с несомненным декоративным дарованием и чисто режиссерским мастерством, находившим применение в расточительной роскоши и фантастических затеях Людовика, влили некоторую живучесть в его напыщенные композиции, дряблые формы и вялую живопись. Как бы для того, чтобы обеспечить своему излюбленному роду живописи по возможности более долгую жизнь, он основывает в Париже в 1648 г. Академию Художеств, а в 1666 г. — Французскую Академию в Риме, задачей которой являлось насаждение тех же идей в Италии и слежка за пенсионерами-французами в смысле контроля за их «добрым направлением». Искусство Лебрена и его школы более, чем какое-либо другое искусство Европы, заслужило данное ему последующими поколениями название «академического». Преемником Лебрена по управлению делами искусства в последние 20 лет жизни Людовика был его сотоварищ по школе Вуэ, Шер Миньяр (1610—1695). Более даровитый живописец, хотя и менее ловкий режиссер, он не обладал неистовой организаторской энергией Лебрена, но энергии художественной у него было еще больше. Он беспрестанно работал над гигантскими картинами и плафонами, притом не в одной масляной технике, но и в воскрешенной им фресковой, и над портретами, которые ему заказывали со всех концов света. Расписав огромный купол Val-de-Grace, где у него фигурирует до 200 человек, он в 85 лет принимается за купол Дворца инвалидов, расписать который помещала только смерть. Такая плодовитость и быстрота работы привели Миньяра к нескольким постоянно повторяющимся типам лиц, что особенно сказалось в бесчисленных мадоннах, писанных неизменно с жены художника, итальянки, и прозванных «миньярдами». Среди академиков, современников Лебрена и Миньяра, надо отметить нескольких членов семьи Куапель — Ноэля Куапеля (1626—1707) и его сына Антуана (1661—1722), в 20 лет получившего звание академика за пышно льстивую картину «Людовик XIV, водворив в Европе мир, отдыхает увенчанный славой», Ла Ира (Іа Hyre, 1608—1656), Себастиана Бурдона (1616—1671), Шарля де Лафосса (1636—1716), Жана Жувенэ (1644—1717), Сантерра (1650—1717), Клода Лефевра (1632—1675) и Франсуа де Труа (1645—1730). Многие из них писали для гобеленов, для которых больше других поработал де Труа, прославившийся особенно серией эпизодов из жизни Людовика XIV, заказанных художнику г-жей Монтеспан. Несколько в стороне от всей этой группы мастеров, вышедших из школы Вуэ и Лебрена, стоит Эсташ Лесюэр (1616—1655), один из ближайших сотрудников Вуэ по работе над его заказами, не только не усложнявший формул своего учителя, подобно Лебрену, но скорее стремившийся к их упрощению и приближению к природе и жизни. Его лучшее создание — серия из 22 картин, изображающих различные эпизоды из жизни св. Бруно, исполненная им для Шартрезского монастыря в 1645—48 гг. и находящаяся сейчас в Лувре, — являет черты, совершенно чуждые его помпезному времени, не имеющие ничего общего со всей этой великолепной ложью, позой и вычурой и предвосхищающие правдивость и художественную честность мастеров, пришедших значительно позднее. В стороне стоит и Жак Куртуа, прозванный Бургиньоном (1621—1676), плодовитый автор кавалерийских стычек, ловкач кисти, несравненный выдумщик, не всегда лживый, временами тонко чувствующий природу, главным образом Италии, в которой прожил всю жизнь. Еще более в стороне стоит блестящий рисовальщик и гравер Жак Калло (1592—1635), остроумный и наблюдательный. Особое место занимает и группа портретистов, соприкасающихся с дворцовой пышностью лишь постольку, поскольку они изображали людей дворцового круга. Надо заметить, что почти все художники, стоявшие на точке зрения искусства, как «возвышающего обмана», уже в силу того, что они были большими мастерами и обладали огромными знаниями, умели писать и портреты, которые часто оказывались их лучшими созданиями. Таковы портреты Версальской галереи Себастьяна Бурдона (генеральный прокурор Фуке), Миньяра (малолетняя герцогиня дю Мен, портрет дочери художника) и даже Лебрена (портрет Тюрена). Франция всегда славилась своими портретистами, и было естественно ожидать, что «великий век», как зовут французы свой XVII в., должен был родить и великих портретистов. И они появились в лице Риго и Ларжильера, хотя их деятельность только частью связана с ХVII в., главным же образом протекала в XVIII в. Оба они исходили от искусства Фландрии, от Рубенса и еще более от Ван-Дейка, но оба претворили заимствованные приемы в нечто новое, в высокой степени национальное, и были французами из французов. К этому времени во Франции постепенно совершался перелом, ознаменованный борьбой между сторонниками формы и приверженцами живописи, между «рисовальщиками» и «колористами». Вместо живописи сухой, бесцветной, все чаще появляются холсты, в которых заметно тяготение к сочной живописи, к цвету. Риго и Ларжильер всецело принадлежат к группе колористов. Гиацинт Риго (1659—1743) несколько суше, сдержаннее, деловитее, предметнее в своих портретах. Ларжильер (1656—1746) — шире, размашистее, сочнее и цветистее в живописи. Искусстве Риго идет только от Ван-Дейка, живопись Ларжильера озарена светом венецианцев. Характеристика Риго — тверже, ближе к натуре, характеристика Ларжильера — поверхностнее. Ни Риго, ни Ларжильер не прикрашивали своих заказчиков, но Риго был суровее в своем отрицании прикрас. Он говорил о своих моделях: «если я их делаю такими, какими они есть, они находят себя недостаточно красивыми; если я их прикрашу, они перестанут быть похожими». Позднее, в XVIII веке, появятся художники, которые умудрятся какими-то судьбами сохранять сходство светских женщин, немилосердно прикрашенных, но Риго суров и правдив даже тогда, когда пишет самого короля-солнце, да еще в глубокой старости. Оттого это один из самых впечатляющих портретов всей истории искусства — этот сверкающий луврский холст, на котором дряхлый, но все еще молодящийся король представлен среди моря пышных драпировок, в деланно важной позе, намеренно — быть может не без усмешки — подчеркнутой художником. Портрет Людовика ХIV послужил исходной точкой для бесчисленного множества портретов монархов и владетельных князей в Германии, Италии и других странах, желавших непременно оставить потомству свое изображение во вкусе Людовика. Из других его портретов особенно замечателен «Воссюэ» в епископской мантии, в Лувре. Риго проработал 62 года, исполняя в год в среднем около 35 портретов, разбросанных во всех галереях Европы. Образцом портретного стиля Ларжильера может служить его шедевр, луврский автопортрет с женой и дочерью, красивый холст, могущий спорить с лучшими произведениями Ван-Дейка и самых больших итальянцев. Из других портретистов, современников Риго и Ларжильера, сильнее других были Филипп де Шампень (1602—1674), фламандец по происхождению, но совершенный француз по духу, по праву адоптированный французским искусством, Леврак-Турньер (1668—1752) и Клод Лефевр (1632—1675).
Однако, величайшими художественными явлениями Франции XVII в. были не перечисленные выше академики и не их антиподы — живописцы и портретисты, а два художника, хотя и принимавшиеся долгое время за представителей академизма, но на самом деле стоявшие выше его и просто вне его, — Никола Пуссен (1594—1665) и Клод Желле, прозванный Лорреном по его родине Лотарингии (1600—1682). Искусство Пуссена — отраженное, выросшее не из жизни и природы непосредственно, а из искусства античного и картин ренессанса. Силой своего гения, постоянными наблюдениями, изучением природы и глубоким проникновением в ее чары и тайны, он оживил не им найденные формулы, выковав в горниле своего творчества из всех этих слагаемых совершенно самостоятельное, высоко индивидуальное, великое искусство, в течение двух, веков служившее источником вдохновения тысячи художников и целых художественных поколений. Пуссен — певец природы, но не одного внешнего ее лика, а ее главного, внутреннего смысла, ее души. Пуссен — первый художник, почувствовавший в природе «пана», таинственное и благостное начало, излучающееся из нее на человека, дающее ему жизнь и наполняющее его бодростью и радостью. Свою природу Пуссен населяет героями, заимствованными из библии, мифологии, истории. Он пишет «Четыре времени года» — серию знаменитых луврских картин, — трактуя «Весну», как рай земной, «Лето», как жатву с библейской Руфью, «Осень», как обетованную землю, с гигантской гроздью винограда, с трудом несомой людьми, «Зиму», как всемирный потоп. Впечатления величия и покоя природы он достигает при помощи изощренного ритма, которым проникнуты все композиции Пуссена и блестящим примером которого служит небольшая картина Лувра — «Эхо и Нарцисс», по музыкальности концепции и певучести линий превзойденная только великими мастерами итальянского Возрождения. После луврских картин Пуссена лучшими следует признать эрмитажные — «Полифем» и «Геркулес, победитель Какуса». Пуссен высоко ценился современниками: сам Людовик XIII собственноручным письмом звал его вернуться из Рима во Франции. Он приехал, чтобы вскоре навсегда покинуть Францию и вернуться в милый его античному сердцу вечный город. О его ученике и зяте Гаспаре Дюге (1613—1675) достаточно лишь сказать, что он был его подражателем. Клод Лоррен — тоже мечтатель о прекрасной природе, художник античных видений, но он шел не от прошлого искусства, а исключительно от природы, которую наблюдал и изучал неустанно, о чем свидетельствуют сотни его рисунков, сохранившихся, главным образом, в Англии. Рисунки эти частью являются эскизами к картинам, частью набросками, сделанными с картин, частью просто этюдами с натуры. Каким образом этот мальчик-пирожник, уже в раннем детстве мечтавший стать художником, попал к римскому художнику Агостино Тасси и как он додумался до того подхода к природе, который история живописи впервые видит именно в картинах Клода Лоррена и который чрезвычайно раздвинул рамки возможного до того в искусстве, — все это пока еще загадочно. Новое в живописи Клода Лоррена — его свет. Пейзажи его, подобно пуссеновским, также населены фигурами, так называемым «стафажем», заимствованным из мифологии и истории, но тогда как у Пуссена они играют весьма видную и важную, иногда решающую роль, у Клода им отведена второстепенная роль в пейзаже. Его подлинные герои — античные храмы, колоннады, портики, виадуки, мосты, но самый главный герой — солнце. Солнцу все принесено в жертву. Клод Лоррен первый художник, к живописи которого в известном смысле уже применимо французское выражение «еnvеlорре» — «окутывание» — впервые употребляемое французскими писателями при разборе картин Коро. За 200 лет до возникновения барбизонской школы французский мастер, почти самоучка, живет столь родственными ей художественными ощущениями. Его луврская картина «Вид на Саmро Vассіnо в Риме» прямо вызывает в памяти этюды Коро итальянского периода. Лучшие картины Клода Лоррена хранятся в Лувре: «Вид гавани при восходе солнца», «Вид гавани при заходе солнца», в Национальной галерее Лондона, в Эрмитаже, мадридском Прадо, дрезденском Цвингере. Несмотря на всю новизну и революционность этого искусства, оно было оценено современниками, доставило автору европейскую славу и породило сотни подражателей и даже подделывателей. Чтобы обеспечить себя от них, художник сделал рисунки со всех написанных им картин, которые собрал в специальном альбоме, названном им «Книга правды» — «Liber veritatis», попавшем позднее в Англию; 200 из них были гравированы Ирломом в 1777 г., 100 дальнейших — в 1819 г. им же. 42 картины Клод награвировал сам, мастерски передав иглой тающие в солнечном свете очертания предметов. Искусство Пуссена и Клода Лоррена — высшие точки, до которых дошла Франции в ХVII в. С этого времени, впервые после эпохи готики, она начинает влиять на другие страны, богатые художественной культурой.
Когда умер Людовик XIV и началась реакция против его стиля, она, прежде всего, вылилась в веселых и шумливых декоративных разводах рисовальщиков-орнаментистов, среди которых больше других выделялся Клод Жилло (1673—1722). Кроме чисто декоративных вещей, он писал небольшие картины на сюжеты из жизни актеров и галантного общества, которые вставлялись в спинки диванов, в комоды, клавесины, крышки шкатулок. Все эти вещицы, быстро и ловко сделанные, бойко раскупались публикой, особенно любившей модных Пьеро, Коломбин и Арлекинов. Для выполнения все возраставших заказов он организовал обширную мастерскую, пригласив себе в помощь на правах «помастерьев» группу молодых художников, в числе которых был Антуан Ватто (1684—1721), составивший вскоре славу Франции. Даровитый юноша, приехавший из провинции, где он обучался у незначительного местного художника, сразу попал в круг новых идей, в обстановку невиданного оживления. Он целыми днями работает на хозяина, сразу оценившего его дарование, и пишет все, что заказывают хозяину, но вскоре расходится с ним и поступает к другому предпринимателю, талантливому декоратору Клоду Одрану (1658—1734), у которого продолжает развивать свой вкус. Так как Одран был хранителем Люксембургского дворца, то он пользуется случаем и усердно изучает хранившиеся здесь картины, интересуясь, главным образом, фламандцами и голландцами. Он сам пишет картинки во вкусе Тенирса, а вскоре находит свой собственный жанр — сцены из военной жизни. В них слышится уже новая нота, начинающая звучать особенно сильно после того, как он обратился от нидерландцев к итальянцам. Венецианцы его окончательно покоряют, и в результате нового увлечения появляется чудесная картина «Юпитер и Антиона» луврского музея, написанная под впечатлением Тициана, за которой следует «Обезоруженный Амур» музея Шантильи, явно навеянный Веронезом. Когда в 1717 г. Ватто представил в Академию картину «Отправление на Цитеру», художественный Париж понял, что во Франции стало одним подлинным мастером больше. Картины его учителя Жилло не пропали для него даром; как все гении — а он, несомненно, им был — Ватто брал у каждого то, что считал нужным и выгодным для своего искусства, но как неузнаваемо выросло «галантное общество» Ватто по сравнению с «галантностями» Жилло! Случайные забавные сценки превратились в грандиозную эпопею, полнее и лучше, чем что бы то ни было другое, отразившую эпоху. За этой картиной, одной из прекраснейших в мире, следовали десятки других, всегда значительных, до конца продуманных и, несмотря на кажущуюся легкость письма, нелегко дававшихся художнику. Ватто не был только забавником, веселым рассказчиком занятных анекдотов и эпизодов: сквозь видимое веселье в его вещах все чаще проглядывает скрытая тоска, к концу жизни окончательно овладевшая им под впечатлением мучительных приступов болезни. Еще большей новостью, чем сюжеты картин Ватто, была их живопись, — лучшая, какая была создана во Франции за всю ее историю до XVIII в. Таких изысканных цветовых отношений, такого сознательного искания гармоний еще не было, как не было и той особенной, одному Ватто свойственной манеры накладывания мазков, которая через 150 лет будет подхвачена импрессионистами. Из картин Ватто в Лувре прекрасен еще Пьерро («Gilles»), Дама, играющая на гитаре («Finette») и Итальянский комедиант; из картин вне Франции лучшие «Мирная любовь» (прежде в собственности германского императора, ныне в Берлинском музее), «Галантное общество» (Берлинский музей), «Любовь во французском театре» и «Любовь в итальянском театре» (там же), «Беседа на воздухе» (Дрезденский музей) и «Миццетин» (Эрмитаж). Одной из лучших картин Ватто, кроме перечисленных, должна быть признана вывеска, сделанная им за год до смерти для магазина его друга, картинного торговца Жерсена, которому история главным образом обязана сведениями о жизни и творчестве великого художника. Вывеска эта двусторонняя и изображает две сцены в картинной лавке, с собравшимся здесь светским обществом ценителей живописи. Вывеска была впоследствии распилена пополам и в виде двух картин попала в собрание германского императора, откуда перешла в Берлинский музей. Успех, выпавший на долю Ватто, породил множество подражателей, среди которых двое должны быть все же отмечены, — Лайкре и Патер. Лайкре (1690—1743), работавший вместе с Ватто в мастерской Жилло и многому научившийся у своего старшего сотоварища, несмотря на всю подражательность, имеет свое собственное лицо, как имеет его и Патер (1695—1736), прямой ученик Ватто.
Во всем XVIII в. Франции имела только одного художника, который с тем же правом, что и Ватто, может носить название великого мастера, то был Ж. В. Симеон-Шарден (1699—1779). Если Ватто был поэтом «галантных празднеств», «fêtes galantes», то Шарден — поэт «невзрачных будней», повседневной жизни небогатого городского люда. Ватто закончил свою карьеру вывеской, Шарден начинает ее с вывески, для того, чтобы обратить на себя внимание: для лавки хирурга он пишет вывеску, на которой изображает раненого в момент, когда его несут в лавку, изображает хирурга, его помощника, сестру милосердия и толпу зевак. Вывеска была написана с таким реализмом, что всегда собирала около лавки толпу любопытных. Наслышавшись о ней, сюда приходили и самые отъявленные академики. Шардена заметили и оценили. В 1728 г. он пишет известную картину Лувра, «Буфет», за которой последовал целый ряд nature morte’ов. Мещанские сюжеты и «мертвая натура» были новостью только для Франции, во Фландрии и Голландии они давно были главной темой картин, но того, что внес в них Шарден, до него не существовало ни в искусстве Нидерландов, ни в искусстве Италии. Мотивы Терборха и Вермеера также чрезвычайно просты, без лишних жестов, — правдивые изображения повседневной жизни, написанные мастерски, тонкие по краскам и деликатные по живописи. Но Шарден ухитрялся еще упростить свою концепцию. Его nature morte'ы часто сведены к одному—двум предметам, вместо сложных фламандских и голландских композиций. Его сцены и отдельные фигуры обрезаны с таким расчетом, чтобы сосредоточить все внимание на данной фигуре, не отвлекаясь обстановкой, соблазняющей голландцев. Такова его луврская «Поставщица провизии», занимающая всю площадь картины, обрезанной над самой головой фигуры. Но самое существенное отличие Шардена от голландцев и итальянцев — наиболее французская черта его искусства — лежит в живописи его картин. То окутывание предметов воздухом, тот «enveloppe», которым отмечены уже отдельные детали картин Клода Лоррена, превращается у Шардена в основной стержень его живописного мастерства. К нему он присоединяет еще нечто, — заботу о красоте самой техники, заботу о красочной поверхности, о разнообразии и гармонии цветов, их взаимной связанности и звучности. Картины Шардена писаны долго, и художник не считал их оконченными, пока не удовлетворялся передачей всех оттенков данного цвета. Поэтому Шарден один из величайших живописцев всех времен. Созерцание таких его картин, как луврский или эрмитажный мальчики, строящие карточный домик — наслаждение совершенно исключительное, даваемое только живописью Шардена. Несмотря на небольшой размер его картин, они все написаны в широкой манере, определенной и мягкой в одно и то же время. Ватто породил целую школу, Шарден не имел ни одного ученика и не соблазнил ни одного подражателя. Еще один певец третьего сословия должен быть отмечен после Шардена, — Грёз (1725—1805). Первая же картина, выставленная им в салоне 1755 г., «Отец семейства, объясняющий библию», произвела фурор среди парижан. Грёза также интересует живопись, но не в такой исключительной степени, как Шардена, не как самоцель, а как средство, ибо его влечет еще больше к пафосу, к рассказу. Примером грёзовского рассказочного стиля могут служить луврские картины: «Обручение в деревне» и особенно «Отцовское проклятие», а также эрмитажный «Паралитик». Ровно через 100 лет в Германии возникла целая школа тенденциозных рассказчиков, таких как Вотье, Кнаус и десятки других, которая целиком ведет свое начало от «Обручения» и аналогичных композиций Грёза, но без грёзовской живописи, без общего чарующего серебристого колорита, без деликатной, артистической поверхности его картин. Грёза тянуло и к чистой живописи в тех случаях, когда рассказывать было нечего, когда он просто писал этюд с натуры или портрет, как этюд охотника в Эрмитаже. Наиболее слабой стороной искусства Грёза было его тяготение к сентиментальности, слишком преувеличенной даже для «чувствительного» конца XVIII в. Всеобщий энтузиазм, вызванный его знаменитой луврской картиной «Разбитая кружка», заставил художника написать еще несколько вариантов ее под разными названиями — «Молочница» в том же Лувре, — но все они значительно уступают первой. Точно также успех первых его «головок» и бесчисленные заказы на повторения привели к доброй сотне сладких головок красавиц неизменно одного и того же «грёзовского типа», разбросанных по всем музеям света. Если десятая часть их написана действительно Грёзом — они обычно без подписей, — то их достаточно, чтобы признать последний период жизни некогда большого мастера периодом упадка и даже падения. Впрочем, падение это было отчасти вызвано рядом глубоких потрясений и семейной драмой.
Наряду с этой реалистической струей во французском искусстве XVIII в. существовало и течение чисто академическое, являющееся отчасти дальнейшим развитием академизма XVII века, отчасти выросшее самостоятельно, под напором новых классических тенденций. Лебрена уже забыли, и плафон в зале Геркулеса в Версале, написанный Лемуаном (1688—1737), кажется настоящей красочной поэмой по сравнению с лебреновскими потолками. Это академик-живописец, сильный, уверенный в себе, жизнерадостный. Его «Геркулес и Омфала» в Лувре — заметная веха в искусстве Франции. Но не один академизм Лемуана изменился, приспособился к новому времени, посветлел и расцветился: целая группа художников, родившихся в последние годы жизни Лебрена или вскоре после его смерти, трактуют по новому старые, затасканные сюжеты академической школы. Даровитая семья Ванлоо с блестящим Карлом во главе (1705—1765), семья Куапелей, с ее лучшими представителями Шарлем Антуаном (1694—1752) и Ноэлем Никола (1690—1734), и такие мастера, как лемуановский ученик Натуар (1700—1777) и ученик последнего Пьер (1713—1789), ученик Карла Ванлоо — Луи Лагрене (1724—1805), или даровитейшие Де Труа младший (1679—1752), Сюблейра (1699—1749) и Хюг Тараваль (1729—1785) направили академизм ХVII в. в новое русло, влив в него достаточно жизненных элементов, чтобы обеспечить ему еще вековое существование и сделать его приемлемым для наших дней. Таких блестящих холстов, как «Охотничий привал» Карла Ванлоо в Лувре, жизненных, радостных, увлекательных по размаху и письму, не много во всей истории искусства, как немного кусков живописи, исполненных с такой играющей виртуозностью, с какой писал свои картины и композиции для гобеленов Де Труа. Но особенно новую ноту внес в живопись самый даровитый из учеников Лемуана — Франсуа Буше (1703—1770). Он не был академиком в том смысле, в каком это название применимо к произведениям вышеупомянутых художников, но он не был и подражателем Ватто, как это обычно принято считать. Ватто, Лайкре и Патер шли от жизни, любя и смакуя ее. Буше шел от гравюры, от какого-то прекрасного, с его точки зрения, оригинала, который заменял ему природу и жизнь и который постоянно носился перед его глазами. Оттого так нежизненны, так надуманны и так однообразны его пухлые, розовато-блеклые Венеры и амуры, — чистейшие декорации, полугобелены. Оттого они, несомненно, теряют теперь, когда их приходится видеть в рамах, наряду с другими картинами в музеях, вне их служебного декоративного назначения. Буше несравненно занимательнее и лучше в своих ранних, скромно, без развязности написанных жанровых картинах и еще более в портретах. Чем ближе к эпохе регентства, тем искусство скромнее, чем ближе оно к эпохе Людовика XV, тем оно распущеннее. Ватто — лучшее выражение стиля регентства; самым ярким выразителем времени Людовика XV был, несомненно, Буше. Там — пастушеская идиллия, само целомудрие, здесь — прямая развращенность, открытая, ничем не замаскированная. Ее нет только в портрете, не дающем для нее материала. Но и портрет сильно изменился со времен Риго и Ларжильера. О правде давно уже нет и речи. В лице Натье (1685—1766) и его зятя Токке (1796—1772) XVIII век нашел своих портретистов, немилосердно льстивших, но умевших сохранять сходство. Их портреты в большинстве случаев полукартины, их красавицы-заказчицы чаще всего изображаются в виде различных богинь, нимф и муз. Даже костюм теряет свой реальный модный облик и становится таким же неуловимым, туманным и стушеванным, как лица. Таков версальский портрет г-жи Анриэтт в виде Флоры, Натье, и его же портрет г-жи Ламбез в Лувре. Токке гораздо даровитее и честнее, почему ему удается создавать настоящие шедевры, вроде портрета г-жи Граффиньи в Лувре. Значительно проще и крепче были портреты художников переходного времени: Людовика XV, Карла Ванлоо, семейный портрет Карла Ванлоо, с 6 фигурами, написанный Луи Мишелем Ванлоо (1707—1771), — оба в Версале — и автопортрет Депорта (1661—1743) в Лувре, с собаками и битой дичью. Они суше, в них нет изящества позднего XVIII в., но правды в них больше. Но XVIII век знал и нескольких правдивых портретистов, к которым надо причислить Друэ (1699—1767), Дюплесси (1725—1802) и особенно Латура (1704—1788) и Перроно (1715—1783). Двое последних были головою выше других, — Латур по силе характеристики, Перроно по драгоценной живописи. Латур, автор луврского портрета мадам Помпадур и серии дивных пастельных портретов, хранящихся в Сан-Кентене, говорил про своих заказчиков: «они думают, что я схватываю только черты их лица, но я опускаюсь на дно их души». Оттого портреты этого психолога так суровы. К французской школе следует причислить еще одного первоклассного портретиста, хотя и шведа по происхождению, но воспитывавшегося и почти всю жизнь прожившего в Париже — Рослена (или по-шведски Рослина, Roslin, 1718—1793), прославившегося во Франции полупортретом-полукартиной «Девушка, украшающая цветами Амура» (в Лувре). Два года (1776—1777) он провел в России, где им исполнено много портретов, из которых лучшие: цесаревич Павел, его жена Мария Федоровна, великая княгиня Наталия Алексеевна (в Романовской галерее), гр. М. А. Румянцева (в Третьяковской галерее) и маркиза Зоя Маруцци (в собрании Е. А. Боткиной). В Лувре - портрет Марии Антуанетты, в Версале — портрет Линнея, в Стокголме — портреты Густава II и его братьев, а также портрет жены художника. Из больших французских портретистов третьей четверти XVIII в. едва ли не большей славой, чем этот любимец европейских дворов, пользовалась Мария Луиза Виоме-Лебрен (1755—1842), член Парижской Академии с 1783 г. за автопортрет, сразу выдвинувший ее в первые ряды мастеров. Наибольшей славой пользуются ее автопортреты, особенно те, в которых она изобразила себя с дочерью — из них лучший в Лувре. В Версале висит ее портрет Марии Антуанетты с розой в руке. Художнице охотно позировали все знаменитости: Жозеф Вернэ, Гюбер-Робер, Паизиелло, лорд Байрон и много других. Эмигрировав после революции, Виже-Лебрен (вторая ее фамилия — по мужу) жила и писала в Италии, а с 1795 по 1801 г. — в России, где ею исполнено множество портретов. Лучший период ее творчества — ХVIIІ век и первые годы XIX.
Во второй половине ХVIII в. во Франции после некоторого перерыва впервые появляется род живописи, после Клода Лоррена встречавшийся лишь эпизодически, — пейзаж. Пейзажисты и народившиеся одновременно анималисты только теперь, через 100 лет после расцвета этого вида искусства в Голландии, находят в Париже твердую почву и входят в моду. Уже Депорт, автопортрет которого упоминался выше, пользовался значительным успехом, и его охотничьи сцены висели во всех собраниях. Еще большая популярность выпала на долю Ж. Б. Удри (1686—1755) и Гюэ (1745—1811). Первые два известны также своими сериями для гобеленов. Пейзажи Клода Лоррена были античными видениями, синтезом долгих и глубоких наблюдений, но они не были «портретом» этой природы, не давали ее топографии. Ранние и лучшие картины Жозефа Верне (1714—1789), верного ученика Антонио Канале, были уже такими портретами. Невероятный успех рано сбил Верне с истинного пути, и он, перестав изучать природу и далекий от синтетической углубленности Клода, изготовлял у себя в мастерской сотни картин и картинок на излюбленные публикой мотивы лунных ночей, тихих гаваней, бурь и кораблекрушений, рыбацких идиллий, в повторении которых растерял весь свой большой талант. Совсем иначе подошел к своей задаче другой пейзажист конца XVIII в. Гюбер-Робер (1735—1808), шедший не от Канале, а от певца руин Паннини. Он также мало писал непосредственно с натуры, его природа также не совсем портретна, слишком романтична, сочинена в мастерской, но огромный запас наблюдений, вывезенный им из своих итальянских скитаний по руинам, помог ему избежать фальши и сладости, часто портящих вещи Верне. Их спасает, кроме того, исключительное декоративное чутье Робера. Слабее у него пейзажная сторона картин, особенно деревья, обычно шаблонные и выдуманные. Как и у Верне, лучшие из его картин те, которые либо прямо написаны с натуры — обычно небольшого размера, — либо сделаны по рисункам и этюдам, вскоре после пережитого впечатления. К таким относятся луврские холсты, изображающие разгром Версальского парка после революции. Любимец собирателей, Гюбер-Робер писал для дворов и магнатов Европы, и едва ли не больше всего картин его находилось в России. Чтобы покончить с пейзажистами, надо упомянуть еще об одном выдающемся мастере, Габриеле Моро (1740—1806), брате известного Моро младшего, картины которого в Лувре, «Вид в окрестностях Парижа» и «Вид в Медоне», по всему своему духу уже предвещают интимный пейзаж XIX в. Здесь же надо отметить значительную группу рисовальщиков, граверов и графиков, сыгравших большую роль в истории французского искусства XVIII в. и оказавших влияние на многих мастеров живописи. Сюда относятся: Гравело (1699—1773), Кошен (1715—1790), Эйзен (1720—1778), Габриель Сент, Обэн (1724—1780), Огюстен Сент Обэн (1736—1808) и только что упомянутый Моро младший (1741— 1814). Два последних принадлежат уже эпохе нового, возрожденного классицизма, главным действующим лицом которой был Жак Луи Давид (1748—1825). Ученик Буше и Виана (1716—1809), первого французского художника, повернувшего к классицизму, он, со всем присущим ему темпераментом, стал пророком этого нового движения, достигающего своего кульминационного пункта в эпоху Директории и стремящегося воскресить идеалы античного Рима. В 1783 г. он привез из Италии свою картину «Клятва Горациев» (Лувр), произведшую на тогдашний Париж впечатление разорвавшейся бомбы. Сейчас трудно понять восторги, вызванные этим надуманным и скучным холстом, примитивно скомпонованным и условно написанным. Успех его был успехом удачного сюжета: поднявшему голову «третьему сословию» наскучили вечные празднества знати, и его тянуло к добродетелям неиспорченных римлян, непреклонному мужеству, честности и правдивости их героев. За Горациями следовал «Сократ» (1787) — грек, достойный по добродетели лучших римлян, потом «Брут перед трупами своих сыновей» (1789), и далее «Убитый Марат». Если бы Давид оставил после своей смерти только античные картины — их было еще несколько, все в том же сладко-тенденциозном стиле, — он остался бы в истории живописи величиной лишь второстепенной, быть может, меньшей, чем в истории революционных движений, ибо Давид, друг Марата и Робеспьера, играл активнейшую роль во французской революции. Но Давид оставил несколько десятков портретов такого высокого живописного порядка, что уже их одних достаточно, чтобы обеспечить ему славу великого мастера. Из них особенной славой пользуются портреты г-жи Рекамье, г-жи Серизна, семейный портрет Жерара, папы Пия VII, г-жи Морель де Танжри с ее двумя дочерьми, г-жи Ришмон, г-жи Виже-Лебрен, Девиена, Пекуля, Энгра (в московский Музее Изящных Искусств). С появлением Наполеона Давид написал по его заказу большие картины Версальского музея — «Коронование Наполеона» и «Распределение Орлов», несмотря на всю официальность, вызываемую темой, имеющие не малые, чисто живописные качества. После падения Наполеона он удалился в Брюссель, откуда не выезжал до смерти, отказавшись от блестящих предложений различных дворов Европы. Из многочисленных учеников Давида, образовавших целую школу, особенно выделился Жерар (1770—1837), первоклассный портретист, автор портретов той же мадам Рекамье, художника Изабэ с дочерью и скульптора Кановы,в Лувре. Когда Давид узнал, что Рекамье одновременно с его сеансами, позировала Жерару, он бросил писать свой портрет, оставшийся не вполне законченным. Жерар был прозван «королем художников» и пользовался невиданным почетом при дворе Наполеона и последующих королей. Из других учеников его известны Жиродэ Триозон (1767—1824), Леопольд Робер (1794—1835), миниатюрист Изабэ (1767—1855), а из последователей, не связанных е его мастерской, Пьер Герен (1774—1833), ученик академика Репье (1754—1829). Однако, только двое из учеников Давида могут быть поставлены рядом с ним, по своему значению в истории искусства, — Гро и Энгр, принадлежащие уже вместе с Жерико, учеником Герена, новому поколению и новым течениям. Из представителей прежнего поколения следует остановиться еще на бытописателе эпохи Директории, Буальи (1761—1845), авторе недурных, хотя и холодных небольших картин из жизни тогдашнего общества.
5. Искусство XIX века и новейшие течения. В архитектуре XIX в. Франция дала мало, почти ничего по сравнению с тем, что ею создано было со времени ренессанса, не говоря уже о периоде готики. Как всюду в Европе, эпоха романтизма сказалась и во Франции в подъеме интереса к своему прошлому, — к готике, а позднее к ренессансу. Как везде, архитектура XIX в. являет картину попеременной смены всех стилей и их нюансов, господствовавших в течение веков. Лучшими из них были здания, выстроенные архитекторами Наполеона в так называемом «стиле первой империи». Вслед затем начинается усердное реставрирование древних готических храмов и средневековых замков, погубившее навсегда большинство их. Главным деятелем этого периода был ученейший архитектор-археолог Виолле-ле-Дюк (1814—1879). Десятки вновь воздвигнутых готических соборов не заслуживают упоминания, как не заслуживают сохранения имена их авторов, некогда столь прославленных. Скорее останавливают внимание попытки, наряду с историзмом и рабским копированием, строить, исходя их нового материала и новых потребностей. Таким новым материалом было железо, начавшее играть в жизни небывалую до того роль; такой новой потребностью, выдвинутой жизнью, было строительство железнодорожных вокзалов, а позднее, с развитием промышленности, гигантских выставок, для которых надо было строить сотни павильонов, притом строить не годами, а в несколько месяцев, а иногда и недель. Первый период этого вокзального и выставочного строительства отмечен наплывом во Франции архитектурных сил из других стран, главным образом из Германии. Так, строителем первого, Северного вокзала в Париже был немец Хитторф (1793—1867), человек дела, а не искусства. Таким же дельцом, а не художником был и француз Вальтар (1805—1874), выстроивший Парижский Центральный рынок из железа и стекла (1852). Дальнейшее развитие этих приемов привело к чисто инженерному стилю, ярким выражением которого может служить Эйфелева башня, возведенная к всемирной выставке 1889 г. Одним из крупнейших архитекторов второй половины XIX в., создавшим из форм ренессанса и барокко некое подобие собственного стиля, был Шарль Гарнье (1825—1898), строитель Парижской оперы, театра и казино в Монте-Карло. Его менее прославленным современником был Давиу (1824—1881), автор дворца Трокадеро (1878). От этих построек уже один шаг до «сборной» архитектуры «Grand palais» и «Petit Palais», выстроенных для всемирной выставки 1900 г. и оставшихся в качестве выставочных помещений для «салонов» до настоящего времени. Первый построен по проекту Деглана, Тома и Лувэ, второй — по проекту Жиро. Модернизм, охвативший на рубеже XIX и XX веков всю Европу и особенно культивированный в Австрии и Германии, а также в странах, издавна тяготевших к германской культуре — в том числе и в России, — не нашел отклика во Франции, так как единичные здания, чаще всего особняки, выстроенные здесь в начале 1900-х годов в стиле «art nouveau», остались без подражания. Стиль пришелся не по вкусу французам, всегда любившим порядок и избегавшим всего вычурного. Впрочем и то немногое, что было выстроено в те дни в Париже — особняк архитектора Плюмэ, построенный им самим, Palace Hotel Шеданна и входной павильон метрополитена Гимара — настолько скромны и незаметны, что не очень пугали даже самых правоверных приверженцев «хорошего вкуса».
Для французской скульптуры ХІХ век оказался более благоприятным. Первая четверть его протекла под знаком борьбы академизма с реализмом, от которой сохранилось только два действительно крупных имени — Франсуа Рюд (1784—1855), автор «Марсельезы», декоративной группы на Arc de l’Etoile и замечательного бюста математика Мошка, в Лувре, и Луи Бари (1795—1875), анималист, автор одного из лучших украшений сада Тюльери, «Льва со змеей», и нескольких десятков превосходных экспрессивных скульптур животных. Оба они реалисты, хотя Рюд и начал свою карьеру с уклоном в сторону тогда еще всесильного классицизма; из чистых «академиков» ни один не заслуживает упоминания. Минуя Шапю (1833—1891), Дюбуа (1829—1905) и Вартоломэ (род. 1848), репутация которых в свое время была слишком преувеличена, почему они сейчас забыты, можно остановиться только на Фремье (1824—1910), авторе памятника Жанне д’Арк в Париже (1874), и Фальгьере (1831—1900), авторе неплохих статуй «Диана», «Танцовщица», жанристе Барриасе (1841—1905) и Карт (1825—1875), авторе «Четырех стран света» в саду парижской обсерватории, и ряда хороших бюстов. Все они вместе взятые, с целой группой их современников и учеников, не стоят одного мастера, жившего и работавшего среди них, но явившегося как бы с другой планеты — Огюста Родэна (1840—1917), одного из величайших скульпторов всех времен. Все, что им создано, не просто статуи и бюсты, правдивые и жизненные, а прежде всего скульптура, в том смысле, в каком картина Шардена есть, прежде всего, живопись. Здесь есть все, чем скульптура отличается от других искусств, и нет ничего, что обычно одно искусство заимствует у другого, — самая чистая, самая кристальная скульптура. Такими чистыми скульпторами были только величайшие из великих, — безыменные авторы статуй Шартрского собора, Донателло, да Микеланджело. Свой стиль Роден нашел к 40 годам жизни, когда им сделаны «Сотворение человека» (1881) и «Бюст Ж. П. Лоранса» (1882), но он неустанно его совершенствовал. Из его произведений больше всего шума вызвали памятники «Гражданам Кале», Виктору Гюго и Бальзаку. Первый еще кое-как удалось поставить, хотя и не там, куда он предназначался, второй и особенно третий вызвали небывалый скандал, в котором приняла участие вся Франция. Сейчас Роден кажется классиком, великим мастером, не возбуждающим никаких сомнений, и с трудом понимаешь возмущение художественного мещанства против этих вдохновеннейших и счастливых созданий. Роден оставил потомству целую галерею бюстов знаменитых деятелей — своих современников: Пювис де Шаванн, Рошфор, Далу, Фальгьер и много других увековечены в могучей характеристике, вызывающей в памяти бесподобную «голову лысого» Донателло, прозванную «тыквой» — «il Zuccone». В последние годы жизни Родена во французской скульптуре началось новое течение, отмеченное стилистическими исканиями и возглавляемое Майоллем (род. 1861). Оно имеет своими истоками монументальное искусство Египта, в котором новейшая скульптурная мысль ищет противоядия против импрессионистического уклона, отличающего большинство скульптур 1890—1900 годов. Его не избежал и Роден, отдавший дань живописному моменту, изысканной сочности и мягкости. С началом нового века появляется тяготение к большей твердости, даже к жесткости, — только бы уйти от дряблости скульптуры импрессионистов. Майолль не только первый, но и лучший выразитель этих новых настроений, бесконечно превосходящий другого модерниста, Бурделля (род. в 1861 г.), не говоря уже о целой плеяде более молодых. Крайности этого второго модернизма, особенно процветавшего в Германии, Франция избежала, как избежала их в 1900 г., при первом его натиске.
Больше всего сделала Франция XIX века в области живописи. Нигде ее гегемония не сказалась столь ярко, как именно в живописи, и никогда она не была столь очевидной, как в XIX и XX веке. Историю французской живописи XIX в. приходится начинать с самого даровитого и сильного из учеников Давида, барона Антуана Жана Гро (1771—1885), как и Давид, боготворившего Наполеона, сопровождавшего его в походах и прославлявшего в картинах. Но его картины, не исключая и этих, славящих его кумира, не похожи на давидовские, далее больше — они вообще не похожи на так называемые официальные картины, всегда мало говорящие глазу и сердцу. «Посещение Наполеоном зачумленных в Яффе» (1804) и «Наполеон в битве при Эйлау» (1808) не имеют ничего общего не только с опрятной и лощеной живописью «античных» картин Давида, но и с его официальными полотнами. Недаром они вызывали отвращение своей грубостью, казавшейся прямым цинизмом: его зачумленные действительно разлагаются, а умирающие и умершие на первом плане «Битвы» внушают подлинный ужас. Гро не мог примириться с падением Наполеона и хотя не бежал из Франции, подобно Давиду, но вскоре потерял душевное равновесие и покончил самоубийством. Он был блестящим живописцем, наделенным настоящим живописным темпераментом. Близким ему по духу был молодой Жерико (1791—1824), такой же энтузиаст. Еще ярче, чем у Гро, в его горячем искусстве выступают две черты, ставшие вскоре основными для новой эпохи, которая шла на смену отмиравшему классицизму, — стремление к правде и искание движения. Правды добивались многие и прежде, но движение, как задача, как лозунг родилось только теперь. Луврские картины Жерико «Гвардейский егерь» и «Раненый кирасир» — сплошной порыв. Но только с появлением его знаменитой картины «Плот Медузы» связь с прошлым была порвана. Дата этого произведения (1819) знаменует поворотный пункт в истории европейской живописи. В 1816 г. французское общество было глубоко взволновано историей с крушением фрегата «Медуза», спустившего плот с 119 пассажирами, из которых спаслось только 15 человек, переживших в море 12 полных ужаса дней. Жерико написал этот плот с такой жизненностью движений и в то же время пафосом, каких до него в живописи не было. Его продолжателем был Эжен Делакруа (1799—1863), начавший с картины, которая была навеяна «Плотом Медузы», хотя по содержанию имела с ней мало общего. То была «Барка Данте», выставленная через 3 года после нашумевшего холста Жерико. Здесь также море, только вместо плота барка, и также несчастные, умоляющие о их спасении. Вскоре появилась его другая знаменитая картина, продиктованная художнику необычайным энтузиазмом, который вызвала героическая борьба Греции за освобождение — «Хиосская резня». Делакруа оставил замечательный дневник, свидетельствующий о его высоком интеллекте, обширном кругозоре, редкой начитанности и исключительном уме. Огромное живописное дарование, сочетавшееся с таким интеллектом, должно было принести незаурядные плоды. И действительно, все искусство Делакруа, этого величайшего из художников-романтиков, сверкающе прекрасно. Однако, идея классицизма не умерла с Давидом, и мы видим в конце XVIII и начале XIX в. еще нескольких подлинных силачей, не сдававших позиций академизма. Один из них даже не вполне «классик», в давидовском смысле слова — Прюдон (1758—1823). Элементы, из которых он выработал свой утонченный стиль, заимствованы скорее у мастеров итальянского Возрождения, — у Рафаэля и Корреджио. Его больше всего волнует ритм, плавность и закономерность большой линии, таинственная игра светотени — «chiaroscuro» Леонардо и Корреджио. Какими судьбами этот бедный крестьянин, вразрез со всем тогдашним искусством, пришел к своему рафинированному стилю, осталось навсегда загадкой, ибо такие его шедевры как «Похищение Психеи», «Правосудие» и «Мщение, преследующее Преступление» (1808), или «Портрет императрицы Жозефины» и «Распятие», могут быть смело поставлены рядом с прославленными прообразами Прюдона. Вполне «классиком» был младший современник Прюдона, ученик Давида, Энгр (1780—1867). Если бы от него остались только его картины, он был бы давно забыт. Составленные по «законам», вычитанным из Рафаэля, как вычитывали их сотни европейский «римлян» начала XIX в., но не преломленным в своей собственной артистической душе, как это имеет место у Прюдона, они оставляют впечатление холода и равнодушия. Совсем не то, когда Энгр пишет портрет или — еще лучше — когда он рисует тот же портрет тонко отточенным карандашом: он сразу преображается, сразу поднимается на недосягаемую высоту и становится равным Гольбейну, оставив далеко позади себя своих старых предшественников по искусству портретного рисования — Клуэ, отца и сына. Эти драгоценные рисунки производят впечатление сделанных без поправок, без резинки, почти с одного почерка, несмотря на то, что они часто изображают целые группы из 3—4 и больше лиц. И масляные портреты Энгра гораздо выше его академической живописи. Сдержанные и несколько условные по краскам, они необыкновенно жизненны по характеристике. Некоторые из них красивы и по общей цветовой гамме, особенно те, в которых брошен через плечо дамы платок с яркими цветами или где было красивое сочетание уже в самом костюме. Ближайшим продолжателем Энгра был Ипполит Фландрен (1809—1864), художник, однако, достаточно бесцветный. Энгр был главным врагом Делакруа и всего романтизма, против которого боролся до конца жизни. Несдержанный и желчный, он доставил великому романтику немало хлопот и огорчений. В дни этой борьбы великанов несколько художников сделали карьеру, смягчив остроту обоих направлений и создав искусство компромиссное и не очень значительное. К ним относится Деларош (1797—1856), написавший «Кромвеля», открывающего гроб с обезглавленным королем Карлом I, и Ари Шефер (1795-1858), автор полуклассических-полуромантических картин. Ближе к романтикам стоит Орас Верне (1789-1863), внук пейзажиста и сын анималиста Карла Верне ловкий «лошадник» и баталист, предтеча всех баталистов второй половины XIX века. Ближе к классикам Кутюр (1815—1879), принадлежащий уже третьей четверти века и породивший целую школу академиков недавнего прошлого, таких как Кабанель (1823-1889) Бодри (1828-1886), Бугро (1825-1905). Совершенно особняком стоит даровитый Шассерио (1819—1856), ученик сперва Энгра, а позднее его антипода Делакруа, сумевший действительно соединить положительные стороны того и другого мастера и выработавший себе своеобразный, ему одному присущий стиль, по достоинству оцененный только на столетней выставке 1900 г., когда был выставлен прекрасный портрет двух сестер и его фрески. От Шассерио пошел впоследствии Пювис де Шаванн (1824-1898), ученик Ари Шефера и Кутюра, нашедший также собственный стиль в декоративных панно, которыми он украсил Нôtel de Ville, Сорбонну и Пантеон в Париже, а также музеи Лилля, Амьена и библиотеку Бостона. Из художников второй половины XIX в. надо упомянуть еще о Гюставе Рикаре (1823—1873), Каромосе Дюране (1838—1913), авторе отличного «Портрета матери» в Люксембурге, под конец сильно измельчавшем и часто пошловатом, о другой портретной знаменитости, Бенджамене Констане (1845—1902), писавшем также и плафоны для богатых гостиных, Жан Поль Лорансе (1838—1921), Бонна (1833—1922), сильном портретисте, Теодюле Рибо (1823—1891), черном по живописи, но не безразличном художнике, и Эннере (1829—1901), художнике женских головок, несколько связанном с Диазом, хотя и значительно ему уступающем. Видное место должно быть отведено в истории французского искусства рисовальщикам и литографам 1830—60 годов, таким, как Гаварни (1801—1866) и особенно Онорэ Домье (1810—1879), который был и первоклассным живописцем, каким его впервые выявила та же столетняя выставка 1900 года. Из парижских иллюстраторов вышел и известный Мейсонье (1815—1891), автор небольших картинок на темы из жизни прошлых веков, разглядывавшихся обыкновенно с лупой в руках и имевших неслыханный успех у любителей второй половины XIX в. Он писал также баталии, всегда кавалерийские, и вообще всадников, так как любил лошадей и знал их, как никто из его современников. Лошади — главная тема его самой знаменитой картины — «1814 год», изображающей Наполеона с его генералами на конях, после Ватерлоо. Ни один художник XIX в, не получал за свои картины при жизни такие огромные суммы, как Мейсонье. В последние годы жизни и еще больше после смерти репутация его стала заметно падать, и из «великого» он превратился в среднего мастера. Несмотря на большие знания и блестящую технику, он был слабым живописцем, писал жестко и черно и вообще был лишен тонкого артистического чувства. От Мейсонье идут баталисты Невилль (1836—1885), Детайль (1848—1912) и множество других, наполнявших салоны своими «кавалерийскими атаками», «стычками», «смотрами», обычно приправленными патриотическими подчеркиваниями. Из них Невилль — проще, скромнее и даровитее всех, исключая рано умершего Анри Реньо (1843—1871), написавшего эффектный конный портрет генерала Прима.
Но все это лишь мелкие эпизоды истории французской живописи XIX в.: после первого крупного явления в начале века, — романтизма, в 1830-х годах возникает новое, не меньшее по значению художественное явление — нарождается так называемый «интимный пейзаж», возникший из настроений и идей романтизма. Его предвестниками были Поль Гюэ (1804—1869), ученик Гро, всецело посвятивший себя пейзажу, писавший с трогательной правдивостью виды Руана, Гонфлера, Авиньона, Сен-Клу, и Декан (1803—1860), тонкий пейзажист, не терявший связи с голландцами. То, что у Гюэ было только намечено, продолжил Камиль Коро (1796—1875), введя в пейзаж не достававшие его предшественникам поэзию и живопись. В 1826 г. он едет в Италию, где пишет с такой же правдивостью, как Гюэ, виды итальянских городов, но сравнение их с теми показывает гигантский шаг, сделанный за это время человечеством в лице Коро, ибо отныне история французской живописи есть история живописи мировой. Так с натуры не писали ни старые голландцы, ни итальянцы, ни французы. То, что у Клода Лоррена намечалось, что понял Шарден в nature morte’е — очарование воздуха, окутывающего и лижущего очертания предметов, — это Коро возводит в систему. «Еnvеlорре» становится его главной задачей, которой он уделяет наибольшее внимание, и вместе с тем эта забота об «окутывании» становится главным стержнем целой школы, выросшей из интимного пейзажа, — школы пленэристов. Однако, топографичен, точен только ранний Коро; позднее он пишет свободнее, меньше работает прямо с натуры, предпочитая передавать свои ощущения и настроения от природы у себя в мастерской, как делал это некогда Клод Лоррен. Он любит в природе мотивы лирические: — раннее утро, сумерки, серый день, любит нежные, серебристые и жемчужные краски. Коро писал и фигуры в мастерской с натуры, полупортреты-полужанры, драгоценные по живописи и не уступающие по значительности пейзажам. Писал — впрочем, лишь короткое время, в начале своей карьеры — и картины на исторические темы — «Данте» и «Агарь в пустыне» (Лувр). Одновременно с Коро страстно искал новых путей Теодор Руссо (1812—1867), так же, как Коро, стремившийся отрешиться от навязчивого гипноза старой школы исторического пейзажа, взявшей от Клода Лоррена только голую схему и проглядевшей все ценное в его искусстве. Эти же мысли не давали покоя и Жюлю Дюпре (1812—1889), другу Руссо. Общая всем идея сблизила этих и еще нескольких художников, аналогично настроенных, в тесный кружок, поселившийся в деревеньке Барбизон, на опушке большого леса в Фонтенбло. Здесь понемногу собрались и стали работать: Констан Тройон (1810—1865), Диаз де ла Пенья (1807—1876), Шарль Добиньи (1817—1878), а под конец своей жизни к ним примкнул и Жан Франсуа Милле (1814—1875). Во многом отличные друг от друга, они были объединены общей любовью к природе, беззаветной, наивной, доходившей до обожания. Одно стремление владело всеми — писать правдиво, честно, не сочиняя и не фальшивя. На это их натолкнула выставка пейзажей англичан Констебля и Бонингтона, виденная друзьями в салоне и произведшая на них неотразимое впечатление. Впервые художники стали жить и работать почти круглый год среди природы, вдали от мастерских, ибо в те годы и Коро проводил целые дни на воздухе. Несмотря на долгую совместную работу, никто из них не потерял своей индивидуальности, оставшись до конца самим собой. Самой мужественной фигурой был Руссо, писавший больше всего дубы, такие же крепкие и кряжистые, как и он сам. Он любил темные, глухие уголки леса, с поросшими мохом камнями, на которых играют солнечные пятна. Его картины, даже небольшие по размерам, производят впечатление могучих, — до того ярко выражено в них чувство, владеющее человеком при входе в исполинский лес. Чувство, настроение, душевное движение — главное содержание картин барбизонской школы. Начав с отрицания лживого прошлого в истории пейзажа, барбизонцы в своих ранних вещах предпочитают сочинениям, пейзажу комбинированному — пейзаж-портрет. Они не выдумывают, но и не фотографируют. Они не лгут, но быть рабами перед природой также не хотят. У них не всегда «действительность», но всегда «правда». Искусство Коро, периода расцвета в особенности, не есть точное воспроизведение данного куска природы; ему одному ведомыми чарами он вызывает на своем холсте нужный ему облик природы, давая зрителю то переживание, которое он вынес от нее сам. В меньшей степени, но так же и близок и далек от природы Руссо с его деревьями, производящими впечатление живых чудовищ, ее населяющих. Меньше этого отдаления и вознесения у Добиньи, теснее и неразрывнее связанного с топографией местности, больше зависящего от данных очертаний, данных облаков, освещения. Но и он не фотографирует, и у него есть обобщения и синтез, и для него главное — в передаче зрителю своего собственного художественного переживания. Лучшие произведения барбизонской школы собраны в Лувре («Кастель Гандольфо», «Озеро» с фигурой женщины, срывающей ветку, Коро и «Опушка леса Фонтенебло при заходе солнца», Руссо), Реймсе (Коро), в Wallace Collection в Лондоне, в Metropolitan Museum в Нью-Йорке и Московском Музее изящных искусств. Если Руссо художник эпоса в природе, то Добиньи художник лирических моментов в ней, а Дюпре — драматических. Крупной фигурой среди них был Тройон, пейзажист и анималист, одинаково сильный в той и другой области, живописец большого темперамента. Диаз стоит несколько в стороне от общей линии группы со своими нимфами и слегка отвлеченным пейзажем. Еще более в стороне стоит Милле, для которого пейзаж редко имеет самодовлеющее значение, но который его знает и передает в духе художественной правдивости, общей всем главным барбизонцам. Его пейзаж неразрывно связан с фигурами, так как его фигуры-крестьяне, сросшиеся с природой, составляющие с нею одно целое. Оттого так цельны его картины: «Крестьянин с мотыкой», «Подбирательницы колосьев», «Вечерний звон». Сам крестьянин, Милле — величайший певец крестьянской страды и крестьянской стихии вообще. И темы Милле всегда волнуют, они не просто великолепно, бесподобно написанные холсты, но целые поэмы, захватывающие и впечатляющие. Никому после Милле, кроме, быть может, Курбе, ни вышедшему из него французскому голландцу Ван Гогу, ни прямому его подражателю — бельгийскому скульптору Менье, не удалось даже отдаленно передать измученную душу крестьянина так, как это сделал он. Когда Милле пишет пейзаж без фигур, он не прибегает к упрощению и создает такие шедевры реалистнческого характера, как луврская «Весна», — цветущий сад, с радугой, — один из прекраснейших пейзажей в мире. После Делакруа и Милле появилась еще одна величина, немногим уступающая им по своему значению — Гюстав Курбе (1819—1877), с которого ведет свое начало новое художественное течение — «реализм» середины XIX в. Органически не вынося лжи и всяких прикрас, он даже крестьян Милле считал недостаточно правдивыми, слишком идеализованными. В 1851 г. он пишет своих «Каменщиков», картину, в которой сказался уже весь Курбе. Их двое: старик, совершенно обессиленный к вечеру от изнуряющей работы, и молодой, таскающий камни. Красивым, с его точки зрения слишком красивым, пейзажам Коро и розовым купальщицам Диаза он противопоставляет своих «Купальщиц», для которых нарочно выбирает уродливых натурщиц. Выставленная в 1853 г., эта картина производит отталкивающее впечатление на публику, вызывая возмущение художественных кругов. Далее следовали такие же грубо натуралистические, намеренно сдобренные всякими оскорбительными для «эстетов» подробностями, картины: «После обеда в Орнане», «Похороны в Орнане», «Пожар» — холст, уничтоженный полицией за антигосударственное направление, — и «Барышни, подающие нищенке». Все эти вещи писались не только для того, чтобы протестовать против всяких условностей и «красивостей» других художников, но и в виде протеста против эксплуатации бедняков и против лицемерия сытых. Демократ и революционер по убеждениям, в 1871 г. активный деятель Парижской Коммуны, он отдал свое искусство на служение обездоленным и униженным. Но еще больше они писались — надо в этом сознаться — для того, чтобы обратить на себя внимание. Такие вызовы, такие перчатки бросались обществу не раз и до Курбе и после него. Каждое новое движение, отрицая прежние течения, сгущает их отрицательные стороны, усиливая тем самым контраст между ними. Но это всегда только вначале, — позднее различия как-то сглаживаются, и революционное некогда искусство кажется безобидным и смирным. Так было с барбизонцами, так стало с Курбе. Из ряда вон одаренный живописец, он не мог довольствоваться служебной ролью искусства и искал в нем непреходящих и самодовлеющих ценностей. Почему, проповедуя только реализм, считая возможным только передачу неприкрашенной природы, почему, называя идеал ложью, а фантазию — вздором, Курбе начинает пристально всматриваться в Рибейру, Сурбарана и Веласкеса? Он слишком артист и слишком француз, чтобы не сознавать всей опасности собственной проповеди и, недолго думая, пускается писать вещи, не имевшие ничего общего ни с грубой правдой, ни с проповедью социализма, но зато лежавшие в плоскости чистой живописи. Его «Человек с трубкой» — этюд с натуры, могущий поспорить с самыми живописными холстами прошлых веков. Его «Женщины на берегу Сены», «Женщина в гамаке» и особенно его пейзажи - одни из высших достижений XIX в. Один из самых поразительных находится в Москве — в Музее изящных искусств — «Море». Он, конечно, писан не с натуры, на чем так настаивал Курбе, а в мастерской, по воспоминанию, или, самое большее, по этюду. И, тем не менее, это — природа, во всем ее красочном богатстве и великолепии, но природа претворенная. Начав с отрицанья барбизонцев, он пришел к ним же. Подобно Милле, Курбе не только не создал школы, но не имел даже подражателей, как впрочем, Делакруа и Шарден. Зато барбизонцы породили их множество. Сначала это были художники, непосредственно примкнувшие к ним, вроде Луи Коба (1812—1867), Шантрейля (1814 —1873), Браскасса (1804—1867), Арпиньи (1819—1916), Розы Бонер (1822—1899), Монтичелли (1824—1885), позднее за ними пошли сотни художников всех национальностей, приезжавшие в Париж и непременно посещавшие Барбизон. Если Курбе не имел личных учеников и личных подражателей, то он своей горячей и упрямой проповедью, несомненно, был отцом европейского реализма, — художественного течения, захватившего Европу в 1860—1870 годах. Но такого реалиста-артиста, каким был Курбе, не дала ни одна из других стран.
В живописи Коро, Тройона, Добиньи, Милле и Курбе были элементы, созревшие для нарождения нового течения, но недостаточно осознанные в их время и оставшиеся незамеченными. Их заметило, оценило и написало на своем знамени новое поколение художников — «импрессионисты», получившие вначале название «батиньольской школы», от парижского предместья Батиньоль, где они собирались в 1860-х годах в мастерской Фантэн Латура (1836— 1904), в которой главным действующим лицом был Эдуард Манэ (1832—1883). Коро любил повторять, что воздух движется и дрожит, что колесо в движении нельзя изображать со всеми спицами, ибо их не видно для глаз. И он уже передавал этот вибрирующий воздух, дрожащие листья. Еще больше заботила эта сторона Милле, в пейзажах которого, особенно в небе, есть все элементы будущего импрессионизма. Наконец, те же элементы мы видим в живописи Ватто. Но больше всего мы их встречаем у Тройона и Добиньи. Некоторые этюды последнего в Metropolitan Museum в Нью-Йорке кажутся типичными импрессионистическими картинами. Даже увлечение Курбе испанцами повторилось: Манэ совершает специальную поездку в Испанию для изучения Веласкеса и Гойи. Однако, все эти элементы получают теперь новое освещение и новое назначение. «Все движется, все вибрирует. Нет смешанных на палитре красок, — в природе каждая краска говорит за себя: кладите их чистыми, несмешанными, пусть глаз зрителя смешивает их сам, как это он делает с цветами натуры. Курбе черен, как сапог, все старое искусство также либо черно, либо желто. Природа не горячая, как картины старых мастеров, в ней вовсе нет «галерейного тона», она — холодная, ее преобладающие цвета голубой и сиреневый. В природе нет ничего жесткого, отчеканенного, граненого, — в ней все спутано и стушевано воздухом и светом. В природе нет сочиненных композиций, нет никаких построений, нет равновесия и симметрии: в ней все случайно. Задача живописи — не писание картин, а передача кусков природы. Но эти куски природы не должны передаваться фотографично и грубо-натуралистично, а должны проходить сквозь призму художественного темперамента». Эти мысли явились не сразу, а некоторые из них были формулированы значительно позже, но все они давно висели в воздухе и были с жаром подхвачены молодежью 1870-х годов. Кроме барбизонцев, новое течение имело еще нескольких ближайших предшественников, тесно с ними связанных. То были голландец Ионкинд (1819—1891), Станислав Лепин (1835—1892) и Эжен Будэн (1824—1898). Не столько внутреннее содержание их искусства, сколько их манера письма оказали некоторое влияние на крупнейших импрессионистов, — общая всем им эскизность и незаконченность и еще более их характерные мазки кисти, дающие впечатление штрихов, крючков и запятых и рассчитанные на передачу вибрирующего воздуха. Гигантская фигура Манэ, равная по сверкающему дарованию, быть может, одному лишь Милле и, пожалуй, превосходящая двух других великанов XIX в. — Делакруа и Курбе, связана только отчасти с импрессионизмом, хотя Манэ и оказал на историю этого движения решающее влияние. После путешествия в Испанию Манэ пишет серию картин, навеянных испанскими мастерами и испанской жизнью: «Алкоголик» (1860), «Испанский гитарист» (1861), «Странствующий музыкант», «Портрет певца Фора». «Алкоголик» — явное подражание веласкезовскому «Мениппу», такое же подражание и «Певец Фор», самой позой повторяющий одного из «шутов» в Прадо. «Гитарист» трактован уже свободнее. Все эти вещи сделаны широко и с таким бешеным мастерством, какого в тогдашних салонах не было. Но все они еще черны по живописи, и только «Мальчик со шпагой» (1861, Metropolitan Museum в Нью-Йорке) написан в светлой гамме, в которой Манэ пишет и дальнейшие свои картины. Знаменательной вехой в истории европейской живописи ХIХ в. был 1863 г., когда у Надара на В-rd des Italiens Манэ выставил 14 своих картин, в том числе знаменитый «Завтрак на воздухе». Манэ, так же, как в свое время Курбе, нужно было бросить в стоячее художественное болото Франции бомбу, надо было сюжетом и живописью возмутить мещанство, — «épater les bourgeois». Он пишет в лесу общество из двух молодых людей и двух женщин, из которых одна обнажена, а другая полураздета. Все фигуры трактованы плоско, без обычных тогда сильных теней, чем Манэ нарочно подчеркивает разницу между живописью в мастерской и на открытом воздухе, давая «полный свет и воздух», — «plein air». Это слово, тогда же подхваченное критикой и публикой, дало впоследствии кличку группе художников типа Ролля (1846—1919), Лермитта (1844), Даньян Буфере (1852) и множества других, сейчас почти забытых, так как все они были мастерами компромисса и золотой середины. Выставка Манэ произвела неимоверный шум, а перед «Завтраком» всегда стояла толпа, то смеявшаяся, то возмущенно потрясавшая палками и зонтиками, грозя проткнуть этот холст, явно надругавшийся над «французским терпением». Такой же шум и не меньшее возмущение вызвала картина «Олимпия», выставленная Манэ в следующем году. Еще более плоская, не лепленная, подчеркнутая местами резким контуром, она висит сейчас в Лувре, недалеко от Энгра, и, глядя на этот холст и на «Завтрак», ставшие почти классическими, с трудом понимаешь тогдашнее возмущение. Большинство картин Манэ 1863—1864 годов уже выдержаны в светлых тонах и сильной, холодной цветовой гамме. Он избегает рельефа не только на воздухе, но и в мастерской, предпочитая ставить свои модели так, чтобы они освещались рассеянным светом, дающим плоское впечатление. Так написана «Олимпия», «Дама с попугаем» (1868), «Стол с розой» (обе последние в Metropolitan Museum в Нью-Йорке), «Балкон» (Люксембургский музей), «Человек с бокалом пива», «Folies-Bergere» и ряд вещей на воздухе. Манэ прежде всего живописец в том смысле, в каком был им Веласкес. Главный застрельщик нового художественного течения, он не был проповедником, вроде Курбе, и еще меньше доктринером. Он просто безудержно писал все, что придется, — картину, подсказанную потрясшим событием, как большой прекрасный холст «Казнь императора Максимилиана», жанровые сцены, наблюденные в жизни — «В лодке», «Кафе», портреты, пейзажи и nature morte’ы. Каждый из его холстов, за исключением тех, которые он бросил недоконченными и которые были вытащены после его смерти из-за шкафов и диванов, — жемчужина живописи. Впервые за XIX столетие в живописи была найдена некая новая ценность, абсолютно неизвестная старому миру, нечто, невероятно раздвигавшее пределы самой живописи и расширявшее наши горизонты. Но не только потому, что Манэ открыл этот новый мир, до того неведомый, но потому, что это его искусство само по себе является одной из вершин, достигнутых человечеством, он должен быть причислен к самым великим мастерам всей истории живописи. Начатое им движение продолжалось другими, и его дело уже в первые годы его художественной карьеры было подхвачено художниками, у которых вскоре и ему самому пришлось кое-чему поучиться. Из них первым и самым сильным был Клод Монэ (1840—1926). Уроженец Гавра, он мальчиком знакомится с жившим и работавшим там Будэном и уже в 1856 г. выставляет в Руане свой первый пейзаж. С 1862 г. Монэ в Париже, где в 1863 г. видит выставку Эдуарда Манэ, открывающую ему глаза. В 1866 г. он пишет свой собственный «Завтрак на воздухе», прекрасную картину (Музей новой западной живописи в Москве), еще черноватую в тенях, но выдержанную в гармоничной цветовой гамме, и «Камиллу» — портрет дамы в рост в зеленом платье, а в 1868 г. — «Завтрак в комнате». С этого времени Монэ всецело отдается пейзажу, поселяется в Аржантейле на Сене и пишет зиму и лето на воздухе. В 1860-х годах в Париже появились первые листы японских цветных гравюр, произведшие сильнейшее впечатление на молодежь, собиравшуюся под водительством Манэ в кафэ Гербэ. Пейзажи Хирошиге, плоские, без рельефа, но удивительно жизненные и наблюденные, находчиво и остроумно выхваченные из природы небольшие ее уголки и куски, были для них подлинным откровением. Уже Манэ сумел применить японские приемы в своей «Олимпии» и ряде других картин. Монэ больше других увлекался японцами и вскоре это увлечение отразилось на его этюдах, таких же «будто бы» случайных вырезках из природы, на самом же деле долго исканных и хорошо найденных. Родилась новая композиция, основанная на придании случайному некоторой закономерности. В 1874 г. у Надара сплоченные к тому времени молодые друзья устраивают большую выставку, оказавшую решающее влияние на весь ход дальнейшего искусства. Кроме Манэ и Монэ здесь выставили все будущие корифеи школы: Альфред Сисле (1839—1899), Камиль Писаро (1830—1903), Огюст Ренуар (1841-1920) и Эдгар Дега (1834—1917). На выставке участвовали еще бельгиец Стевенс, американец Уистлер и менее знаменитые члены кружка, Легро (1837—1911), Базилль (1841—1870) и Дебутэн (1822—1902). В числе выставленных была картина Клода Монэ, названная им в каталоге: «Впечатление. Восход солнца». На небольшом холсте была написана вода, силуэты дальних зданий города и кораблей, на первом плане лодки, качающиеся на воде, на горизонте солнце, отражающееся в воде. Все это было набросано широкими беспорядочными мазками, в светло голубой гамме. Словечко «впечатление» - «impression» — было подхвачено юмористом из «Charivari», окрестившим участников выставки кличкой «импрессионисты», с тех пор присвоенной всей школе. Клод Монэ сразу превращается во второго ее полководца, и сам Манэ не избегает его влияния: только теперь появляются в живописи последнего, главным образом в пейзажах, лиловые и бирюзовые краски, которыми давно уже писал Монэ. С 1890 года он начинает писать серии картин-впечатлений на один и тот же мотив, в котором меняется только время дня и освещение. Идя дальше всех в направлении утверждения новой веры, он интересуется не мотивом предметным, а лишь мотивом света и цвета, передавая бесконечное разнообразие цветовых оттенков, мимолетных и изменчивых, «fugitif et changeant». Так появляется в 1891 г. его первая серия «Стога сена» — 2 стога, переписанные им при самых разнообразных освещениях. Следующей серией был «Руанский собор», за ним следовали «Тополя», «Утро на Сене», «Нимфеи на пруду», «Темза», «Эффекты воды» и «Венеция». Свои серии он писал обычно по несколько лет, выставляя сразу у Дюран-Рюэля на улице Лафит по несколько десятков холстов, в большинстве случаев одного и того же размера — 1 метр на 65 см. Манэ — зачинатель и вдохновитель школы, но его искусство лежит несколько в иной плоскости, и Теодор Дюре, свидетель рождения всего направления и его истории, друг Манэ и Монэ, в своей истории импрессионизма не считает возможным дать ему место и истинным отцом импрессионизма называет Клода Монэ. Действительно, в искусстве Клода Монэ нашли свое наиболее яркое выражение идеалы и чаяния поколения, взволнованного феерическим явлением Эдуарда Манэ. У Манэ, как и Курбе, не было прямых последователей, у Монэ их было много. Манэ остался без продолжателей, и его искусство одиноко. Крупнейшие импрессионисты, современники Манэ и участники первых групповых выставок, находились уже под определенным воздействием идей Монэ, а не под влиянием Манэ. Таков его ближайший друг Сисле, мастер крупный, не ставший великим только потому, что его заслоняла фигура Монэ, но отнюдь не подражатель и не эпигон его. Таков и Писсаро, менее даровитый, но сохранивший индивидуальность, несмотря на сильнейшую зависимость от Монэ. То, что было сделано Монэ в пейзаже, применил к человеку Ренуар, мастер необычайного очарования, самый французский из всех, несмотря на весь модернизм конца XIX в. все еще плоть от плоти лучших французских художников XVIII в. С одним из них, Ватто, он имеет особенно много родства, не в сюжетах, столь различных, а скорее в живописи, грации, в нежности, с какой он подходит к женщине. Он мастер скользящих взглядов, убегающих профилей, зарождающихся улыбок. Никто ни до него, ни после не умел передавать этого ренуаровского неопределенного, нефиксированного рассеянного взгляда, мимолетного, преходящего, изменчивого. Но он и изумительный живописец, совершенно своеобразный и острый. Его дружба с Монэ началась уже с 1862 г. В 1868 г. он выставляет картину, и тогда уже замеченную, теперь же признаваемую одной из главных вех школы, — портрет дамы, идущей на солнце под зонтиком, на фоне леса, в белом с розовым платье, — названный им «Lise». На выставке у Надара у него уже 5 картин и 1 пастель, в том числе «Танцовщица» и «Ложа», — лучшее создание мастера. Ренуар писал сложные групповые портреты, из которых лучший «Г-жа Шарпантье с дочерьми», в Metropolitan Museum. Он много писал и на воздухе, с особой любовью передавая игру солнечных пятен на одежде и теле. Из таких картин особенно замечательна «Moulin de la galette», изображающая танцующие пары в саду (1877). Менее тесно связан с импрессионистами Дега, фанатический поклонник Энгра — как это ни странно звучит, — которому он остался верен до гроба. Начав с тонко выписанных, деликатных по живописи картин жанрового характера, близких по подходу к картинам де Нитиса (1846—1884), но бесконечно их превосходящих по художественной ценности, он позднее весь отдался стихии движения, не того, которого добивались романтики, не четкого, ясно видимого и фиксируемого глазом движения, а движения нового, чисто импрессионистического, движения, едва поддающегося улавливанию. Это опять одна из сторон формулы «мимолетность, изменчивость», но примененная не к цвету и психологии человеческого лица, а к динамике фигуры, к психологии движения человека и животного. Дега всю жизнь отдает на изучение и передачу движения танцующей балерины и гарцующей лошади. И опять перед нами мастер, давший нечто, до сих пор небывалое, и давший его так, как не давал никто, кроме него, ни раньше, ни позже. Очень полное представление о его искусстве во всех родах живописи и во все периоды дают Московские Музеи новой западной живописи, где есть и лучшие экземпляры серии скачек, и лучшие картины из жизни балетных танцовщиц раннего и позднего периода. В обоих музеях собраны вообще одни из лучших картин школы импрессионизма, с полнотой, которой нет ни в Париже, ни в Нью-Йорке. Кроме этих больших мастеров, есть несколько десятков художников, шедших и продолжающих идти той же дорогой, но ни один из них не поднялся даже отдаленно до уровня этих. Среди импрессионистов «первого призыва» сильнее других Берта Моризо (1841—1895), автор неплохого портрета «Дамы в бальном платье» Люксембургского музея, и Ева Гонзалес (1849—1883), которую Манэ обессмертил своим портретом в рост перед мольбертом, ученица Дега, — американка Мэри Кессэт (1845—1926) и Арман Гильомэн (род. 1841). Искусство импрессионистов было слишком неприемлемо для публики и долгое время имело успех лишь в узких кругах художников и любителей, но уже рано явились художники, взявшие у импрессионизма то, что было более доступно, и сумевшие преподнести его, в значительно обесцвеченном виде, широким кругам. К таким компромиссным художникам относятся: Бастьен-Лепаж (1848—1884), автор хорошей картины Московского Музея изящных искусств «Деревенская любовь», Альбер Бенар (род. 1849), написавший некогда удачный «Автопортрет с семьею», портрет актрисы Режан и еще десятки других вещей, но бросивший позже на рынок множество вещей дешевых и пошлых, Казэн (1841—1901), художник сумрачных пейзажей «с настроением», когда-то очень ценимых, Шаплэн (1825—1891), художник полураздетых хорошеньких женщин, Рафаэлли (1850—1923), полурисовалыцик-полуживописец, штрихующий кистью, даровитый наблюдатель жизни парижских предместий, и Форен (род. 1852), примыкающий к Дега. Из художников старшего поколения, не примкнувших к импрессионизму, но отразивших в своих картинах некоторые его стороны, можно причислить Зиема (1821—1911), автора ярких «Венеций», и отчасти даже Фромантэна (1820—1876), художника красочных гамм.
В 1886 г. на последней выставке группы импрессионистов участвовали следующие художники: Мари Бракмон, Мэри Кессэт, Дега, Форэн, Гоген Гильомен, Берта Моризо, Камиль Писсаро, Люсьен Писсаро, Одилон Редон, Руар, Шуффенскер, Сера, Синьяк, Тилло, Виньон и Зандоменега. Помимо нескольких второстепенных дарований, не заслуживающих внимания, в этом списке есть три имени, вскоре возглавившие три новых течения — Сера, Гоген и Редон.
Жорж Сера (1859—1891) выставил здесь картину «Воскресенье в Grande Jatte», бывшую не совсем обычной и выделявшуюся далее здесь, на этом сборище необычных вещей. Все цвета живописи были разложены на составные части, — чистый голубой лежал рядом с чистым желтым, оранжевый с лиловым, красный с зеленым. Ближе всего к этой картине подходили холсты старика Камилла Писсаро, несколько изменившего манеру в сторону большей цельности и яркости красок, молодого Люсьена Писсаро и Поля Синьяка (род. 1863 г.). Вскоре после выставки к последним трем — ибо Писсаро никогда не сливался с ними — примкнуло еще несколько человек: Кросс (1856—1910), Пилье, Люс (род. 1863 г.), Птижан, Тео Ван Риссельберг (род. 1862 г.), Анри Ван де Вельде (род. 1863 г.), образовавшие с этого времени группу нео-импрессионистов - название, данное им критикой и ими принятое, хотя вначале они называли себя хромолюминаристами. Главный стержень группы — «дивизионизм», разделение цветов с целью достижения большей яркости и чистоты живописи. Нечто подобное было уже и ранее в пейзажах Клода Монэ и особенно Писсаро, писавших «запятыми» — тонкими, длинными мазочками, дававшими вибрацию воздуха и света, но те не возводили этого приема в систему, теперь же на нем строилась новая эстетика. К этой основной группе еще позднее присоединились: Морис Дени (род. 1870 г.), Руссель (род. 1867 г.), Вюйар (род. 1869 г.), Боннар (род. 1867 г.), Герен (род. 1874 г.), Валлотон (род. 1865 г.), хотя ни один из них уже не был дивизионистом. В противоположность импрессионистам, неоимпресснонисты вернулись к композиции; отказавшись от искания случайных вырезок природы, они снова начали компоновать, комбинировать и строить и на этом пути вновь пришли к старому историческому пейзажу, особенно сильно сказывающемуся у Мориса Дени. Совсем иной смысл имела реакция против импрессионизма, связанная с именем Гогена (1848—1903). В его искусстве также сказалась тоска по композиции, по «картине», совершенно вытесненной «этюдом», но еще больше сказался протест против вечной вибрации, беспокойной, нервной, утомляющей живописи импрессионистов, дивизионистов и особенно выросших из последних «точечников» — пуантилистов, остававшихся, несмотря на свой модный наряд, самыми добродетельными и нудными академиками, как мы видим на примере Анри Мартэна (род. 1860 г.). «Назад к смешанным краскам, вперед к новому синтезу красок и композиции», — этим лозунгом отмечен новый, последний значительный этап в эволюции французской живописи. В нем много ответвлений и оттенков, которым отвечают соответствующие «измы», но основной смысл остается один: от фотографирования природы к ее свободной трактовке. Все эти уголки природы начали казаться новому поколению смахивающими на моментальные фотографии, тающие в свете и воздухе краски — слишком смазанными, формы — пухлыми. Хотелось большей твердости и даже жесткости. Когда в одной маленькой парижской картинной лавке появились картины голландского выходца Ван Гога (1853—1890), передовая молодежь набросилась на них, как на долгожданную манну искусства. Вышедший, как и Гоген, из импрессионизма, Ван Гог, подобно ему, порвал с этим направлением, как с искусством впечатления, сохранив те из его приемов, которые облегчали поставленную им себе новую задачу-передачу острых ощущений, сильных переживаний, неожиданных сопоставлений. Ему мало только изображать, он хочет и выражать. Был еще один художник, искатель острых ощущений, Тулуз-Лотрек (1864—1901), но он больше рисовальщик, чем живописец. Еще одним явлением, вышедшим из импрессионизма, но значительно более крупным, чем искусство Гогена и Ван Гога, ознаменована последняя четверть XIX в. и начало XX в. — расцветом живописи Поля Сезана (1839—1906). Он вышел из старых мастеров и Курбе, что так резко бросается в глаза, когда стоишь перед черными ранними картинами художника, такими, как «Похищение». Знакомство с Писсаро и работа с этим художником в 1873 г. сразу приводит его к импрессионизму, а последний к его собственному стилю, и когда на знаменитой Надаровской выставке 1874 г. он выставляет картину «Дом повешенного», в ней сказывается уже весь будущий Сезан. Здесь налицо все элементы сезановского стиля: четкость масс, крепость построения и страстная любовь к цвету. Коро и барбизонцы нежно любили природу; Монэ и импрессионисты любили не столько природу, сколько ее восхитительные красочные переливы; Сезан обожал самую живопись, обожал беззаветно, как никто после Шардена. Вне живописи, вне цветовых отношений для него не было искусства. «Нет линии, нет лепки, есть только сопоставления. Эти сопоставления вовсе не состоят в противоположении белого и черного, а в цветовой чувствительности. Верно взятое цветовое соотношение дает ту же лепку, но не скульптурную, а чисто живописную. Когда цвета найдены, верно и гармонично наложены, все само собою начинает лепиться. Рисунок и цвет совсем не разъединены: хорошо найденный цвет и есть рисунок». Эти и сотни других афоризмов Сезана передавались в 1890-х годах из уст в уста представителями молодого искусства, для которых он был таким же кумиром, какими были некогда Курбе и Манэ. Таких кусков живописи, какие дал Сезан, также не знало человечество до него, как не знало оно искусства Шардена, Манэ и Монэ до их появления. Для достижения этой одной цели своей живописи Сезан пожертвовал всем остальным, — оттого так неприемлем он до сих пор для широких кругов, и оттого так долго не могли примириться с ним многие даровитые художники. Область, в которой ему легче всего было экспериментировать — nature morte, и nature morte’ы лучшее из всего, им созданного. Портреты, за исключением немногих (Гюстава Жоффруа, нескольких автопортретов и портретов жены), гораздо слабее, так как одной живописи для портрета мало. Зато пейзаж дал Сезану такой же материал, как и мертвая натура, и многие сезановские пейзажи с успехом спорят с пейзажами Клода Монэ по своему абсолютному удельному весу, хотя оба художника и являются антиподами. Кроме живописи, в картинах Сезана есть сторона, давшая жизнь целому ряду новых и новейших «измов». Углубляясь в живопись, он, естественно, подобно многим великим поэтам цвета, до Тициана и Тинторетто их последних периодов включительно, пренебрегал формой. Этому значительно способствовала мозаичность его красочной кладки, так как Сезан считал, что писать с натуры надо примерно так, как ткут ковер, — кладя один цветовой оттенок рядом с другим, пока ковер-картина не будет закончена. Эти невольные «сдвиги» пятен, а вместе с ними и форм были приняты школой, всегда более роялистской, чем король, как некий новооткрытый закон и лозунг для нового «изма», которым на этот раз оказался «кубизм». От частичных сдвигов был один шаг до общего сдвига всех частей предмета, всех членов человеческого тела. В противовес «впечатлению» импрессионистов выдвигается проблема изображения не кажущегося, а действительного, что приводит к изображению одновременно всех сторон предмета, как бы развернутого на плоскости. Создателем кубизма является Пабло Пикассо (род. 1881 г.), хотя и испанец по происхождению, но вросший глубоко в художественную жизнь Парнаса и связанный с ней еще теснее, чем в свое время голландец Ван Гог. За ним пошла целая группа молодых художников, среди которых даровитее других: Дерэн, Брак, Вламэнк, Фриэз, Андрэ Лот, Глэз, Люк-Альбер Моро. Из кубизма вырос в дальнейшем «конструктивизм», а косвенно — итальянский «футуризм» и немецкий «экспрессионизм». Сам Пикассо после 1919 г. стал отходить от созданных нм теорий, круто повернув назад, ни больше, ни меньше, как к Энгру, но этот поворот на 180° породил только немощные, сладкие, плохо рисованные и писанные портреты и фигуры, бесконечно уступающие его ранним сценам из жизни парижских кафе, навеянным Тулуз-Лотреком. Одновременно с Пикассо, на рубеже XIX и XX в., выступил еще один художник, заставивший о себе много говорить, Анри Матисс (род. 1869 г.). Начав, как и все поколение, с импрессионизма и придя к Сезану, он, постепенно упрощая форму в направлении ее монументализации, понемногу свел свою живопись к почти плакатному письму. Резко прочерченный черной краской контур он расцвечивает яркими красками, эквилибрируя между реальным впечатлением и чисто декоративным, почти орнаментальным заданием. После 1919 г. у него, однако, вновь появляется светотень и лепка, и он становится опять реалистом, каким был вначале. Из других художников-реалистов, прошедших через импрессионизм, выделяются: Маркэ (род. 1875 г.), Дюнуайе де Сегонзаг (род. 1884 г.), Жан Пюи (род. 1876 г.), Ле Фоконье (род. 1881 г.). Еще одни художник, участвовавший на последней выставке импрессионистов в 1886 г., Одилон Редон (1840—1916), оказался вдохновителем течения, имеющего значительное число приверженцев. Его истинных истоков надо искать в искусстве Гюстава Моро (1826—1898), странного запоздалого романтика и фантаста, мало даровитого, но чрезвычайно изобретательного, создавшего целый музей из своих произведений. Другими его предтечами были французские рисовальщики, литографы и декораторы 1860-х годов. Модернизовав их приемы, Редон выработал себе своеобразный стиль, не слишком, однако, высокого порядка, с сильной дозой дилетантизма. Вокруг него образовалась небольшая группа почитателей, пытавшихся поднять Редона на пьедестал, что, однако, не вполне удалось. Той же группе удалось создать такой пьедестал для другого дилетанта — Анри Руссо (1844—1910), одной из самых странных фигур новейшего французского искусства, никогда ничему не учившегося, беспомощного и косноязычного, но временами умеющего производить впечатление, которое не под силу хорошо муштрованному художнику-профессионалу. Непомерно возвеличенный, он под конец сам поверил в свое исключительное назначение и гений, что сразу отразилось на его полурисованных, полураскрашенных картинках-лубках, утративших единственную свою ценность - непосредственность, доходящую до комической бесхитростности. Необъяснимая ирония судьбы: Франция, хранившая на протяжении всей своей истории нерушимо великое мастерство в искусстве, владевшая им в XVIII и XIX веках так, как ни одна страна в мире, в XX веке его неожиданно теряет. Последним ее мастером был Сезанн, на смену ему не пришел никто; современный Париж являет картину полного художественного запустения и не видно, чтобы в рядах его художников всех толков и цветов вновь накапливалась энергия, способная выдвинуть нового гиганта.
Литература: Н. Guedy. «Dictionnire d’architecture». Р. 1902. L. Magne. «L’Architecture françаise du siècle». Р. 1890. K. Gurlitt. «Die Baukunst Frankreichs». Dresden, 1896. Elle Faure. «Histoire de l’art. L'art médiveal». Р. 1912. L. Gouse. «La sculpture française depuis le XIV-е siècle». Р. 1895. K. Е. Schmidt, «Frauzösische Skulptur und Architectur des XIX Jahr.». Leipzig, 1904. Н. Bouchot. «Les primitifs irançais». Das Bild. «Herausg. von Wilhelm Нausenstein. Tafelmalerei der alten Franzosen». München, 1923. Р. Manz. «La peinture française du IX-е siècle а la fin du XVI-е siècle». Р. 1897. «Нandbuсh der Kunstwissenschaft», gegründet von Prof. D-r Fritz Burger. Heft 1—2. Skulptur und Malerei in Frankreich von XV bis zum XVI Jahrh. von D-r Artur Weise. В. 1917. Jacques Baschet. «Les grands maîtres français». Р. 1910. L. de Laborde. «La Renaissance à la Cour de France». Е. Münz. «La Renaissance en Italie et en France а l'époque de Charles VIII». Lemonier. «L'Art français au temps de Richelieu et de Mazarin». Р. 1893. Olivier Merson. «La peinture française au XVlI-е et XVIII-е siècles». Р. 1901. E. et J. de Goncourt. «L'Art du XVIII-е siècle». Henry Marcel. «La peinture au XIX-е siècle». F. Benoit. «L'Art français sous la Revolution et l'Empire». L. Rosenthal. «La peinture romantique». Р. 1900. G. Lanoé et Т. Brice. «Histoire de l'ecole française de paysage» (depuis le Poussin jusqu’à Millet). Р. 1901. Louts Hourtique. «De Poussin à Watteau». Р. 1921. J. Baschet. «La peinture française au XlX-е siècle». Р. 1908. F. Benoit. «Histoire du paysage en France». Р. 1908. Th. Duret. «Les peintres Impressionistes». Р. 1906. С. Mauclair. «L’lmpressionisme». Р. 1904. А. Tomson. «J. F. Millet and the Barbizon School». London, 1905. Maurice Denis. «Théories 1890—1910. Du Symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique». Maurice Denis. «Nouveiles Théories sur l’Art moderne, sur l’Art sacré». 1914—1921. Р. 1922.
Игорь Грабарь.
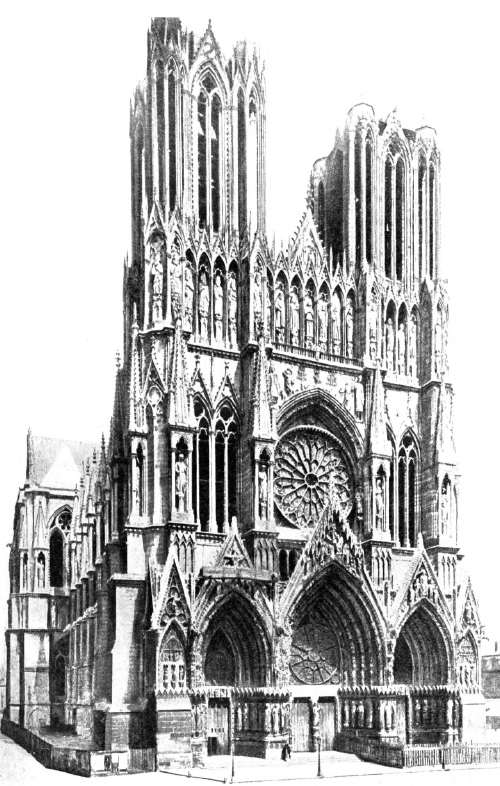
Французское искусство. Собор в Реймсе.
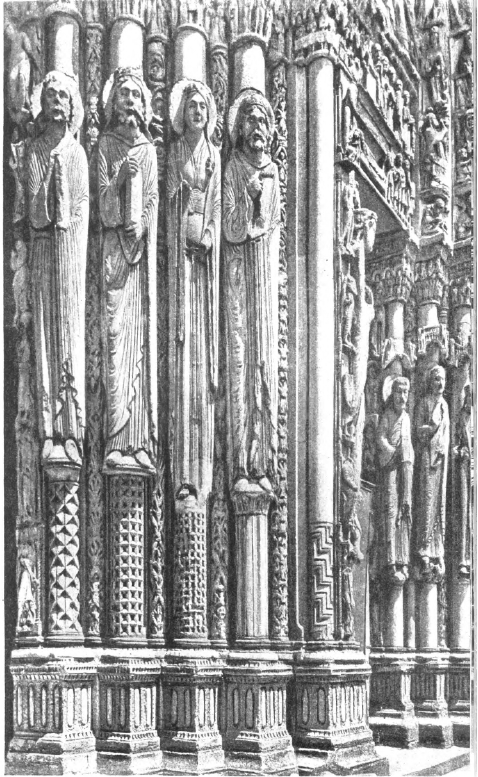
Французское искусство. Скульптура Шартрского собора.

Французское искусство. Пьер Леско (1515—1578). Лувр.
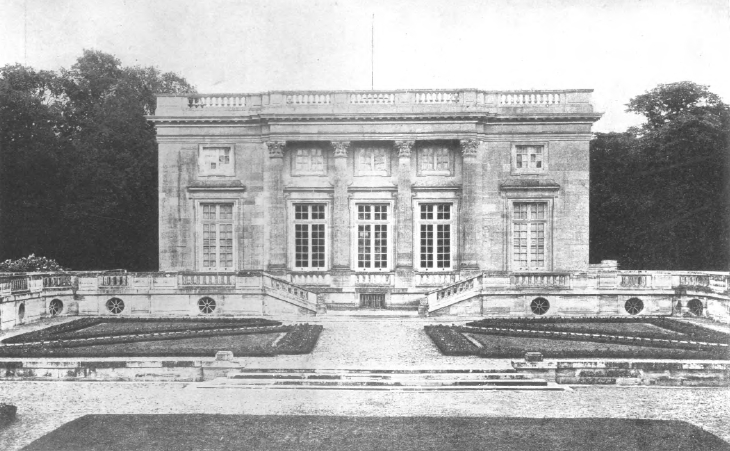
Французское искусство. Жак Анж Габриель (1698—1782). Малый Трианон.

Жан Гужон (родился около 1510 г., умер около 1568 г.). Диана. (Париж, Лувр).

Французское искусство. Франсуа Клуэ (род. около 1510, умер в 1572). Елизавета Австрийская. (Париж, Лувр).

Гиасент Риго (1659—1743). Людовик XIV. (Версальская галерея).

Никола Французское искусство. Пуссен (1594—1665). Триумф Нептуна и Амфитриты. (Ленинград, Эрмитаж).

Французское искусство. Клод Лоррен (1600—1682). Полдень. (Ленинград, Эрмитаж).

Французское искусство. Антуан Ватто (1684—1721). Танец. (Потсдам).

Французское искусство. Жан Батист Грез (1725—1805). Чтение письма. (Лондон, коллекция Ротшильда).

Французское искусство. Франсуа Буше (1703—1770). Пастораль. (Париж, Лувр.)

Французское искусство. Оноре Фрогонар (1732—1806). Этюд. (Париж, Лувр).

Французское искусство. Жак Луи Давид (1748—1825). Г-жа Ришмон с дочерью.
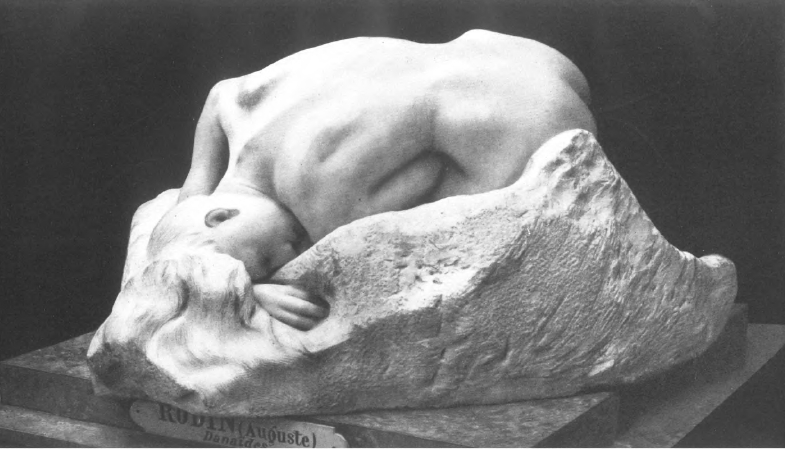
Французское искусство. Огюст Родэн (1840—1917). «Данаида». (Париж, Люксембургский музей).

Теодор Жерико (1791—1824). Гвардейский егерь. (Париж, Лувр).

Пьер Прюдов (1758—1823). Похищение Психеи. (Париж. Лувр).

Французское искусство. Жан Огюст Доменик Энгр (1780—1867). Портрет г-жи Сенонн. (Музей в Нанте).

Жан Батист Камиль Коро (1796—1875). Пейзаж. (Москва, Музей изящных искусств).

Французское искусство. Теодор Руссо (1812—1867). Опушка леса в Фонтенебло. (Париж, Лувр).

Французское искусство. Жан Франсуа Милле (1814—1874). Сеятель. (Музей в Брюсселе).
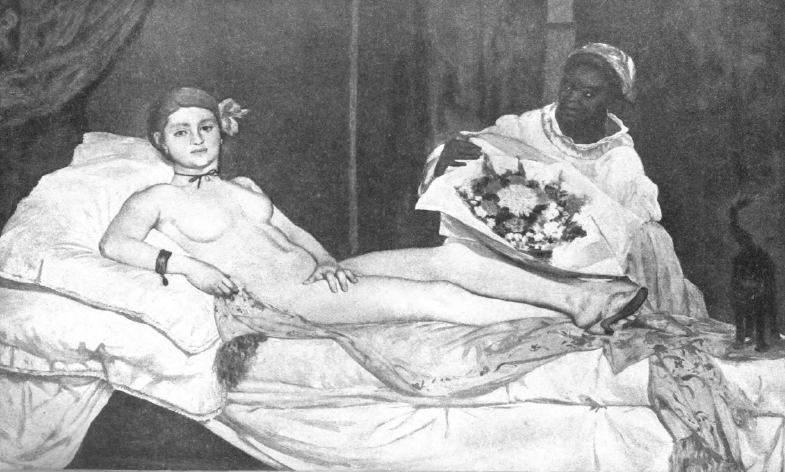
Французское искусство. Эдуард Манэ (1832—1883). Олимпия. (Париж, Лувр).

Французское искусство. Клод Монэ (1840—1926). Парижский бульвар. (Москва, Музей новой западной живописи).

Французское искусство. Поль Сезан (1839—1906). Натюрморт. (Москва, Музей новой западной живописи).
| Номер тома | 45 (часть 1) |
| Номер (-а) страницы | 497 |
