Русское искусство II. Русская живопись, скульптура и графика XVIII, XIX и начала XX в
Русское искусство II. Русская живопись, скульптура и графика XVIII, XIX и начала XX в.
А) XVIII век. Рубеж между древним и новым русским искусством обозначен петровским временем. Начало XVIII в. принесло и утвердило замену древнерусской художественной традиции новым обликом русское искусство, взятым «с манеру» европейского и соответствовавшим тем изменениям русской жизни, какие происходили в первую треть столетия. Наиболее легко и заметно поддавались этим новшествам верхние формы материальной культуры, и искусство, прежде всего, ибо они были связаны либо непосредственно с парадным представительством, с придворным обиходом, с дворцово-строительными затеями самого Петра, либо с обликом и бытом его ближайшего окружения. Спускаясь же в 1700—1730 гг. из придворных сфер в широкие общественные слои и в народные массы, можно было наблюдать доживание устоявшихся, исконных художественных форм в том виде, в каком их передало по наследству древнерусское искусство на своем последнем этапе. И тут было именно доживание: к петровской поре тяжба старины и новизны была уже решена; огосударствление церкви обрекло древнюю иконопись на изгнание из широкой народной жизни и на уход вместе с ревнителями старого благочестия в скиты, в леса, в подполье; развитие иконописи здесь оборвалось: были только древние памятники, почитаемые, охраняемые, скрываемые, но не было искусства, которое продолжало бы жить и развиваться. Новая же церковная живопись была подчинена новой церковной архитектуре, а так как последняя осуществлялась перенесением западного церковного барокко на русскую почву, то и иконы стали просто картинами на религиозные темы, подобно тому, как объемные украшения стали церковными рельефами и статуями. Таким образом, исконным и независимым оставалось лишь собственно народное искусство, точнее — крестьянское искусство, имевшее почти исключительно прикладной характер; формально — мало подвижное, материально — нестойкое (деревянная резьба), еще чаще — просто хрупкое (вышивка, набойка, глина, лубок), оно плохо сохранилось и слабо изучено. Искаженнее всего оно выразилось в так называемом «крепостном искусстве», выполнявшем барские заказы на имитацию импортных художественных мод руками, навыками и пониманием крестьянских, усадебных, доморощенных мастеров. Это искусство крепостных сохранилось еще меньше, чем чисто народное творчество. Наиболее устойчивым оказалось влияние «парсуны», которое продолжалось еще целое полстолетие, до 1760-х гг., до Екатерины II, и сказалось не только на русских мастерах первой половины XVIII века, но и подчинило себе в известной мере даже художников-иностранцев, работавших в России.
В петровское время положение искусства было своеобразным: с одной стороны, шел разрыв с древнерусской художественной традицией; с другой — этот разрыв даже отдаленно не вызывал того сопротивления, какое шло в других областях принудительно меняемого уклада. Так было потому, что при Петре искусство было второстепенной подробностью общегосударственного строительства. Заимствования западной культуры шли не огулом, не вообще, а бралось то, что было по российской нужде и мерке. Петровское направление, в основной своей линии, было усвоением голландского варианта европейского барокко. Это обусловливалось первенствованием архитектурных потребностей строящегося Петербурга. Отклонение от голландской линии допускалось там, где нужды русского придворного уклада требовали равнения на первейшие дворы Европы: так обстояло дело с портретным искусством, с батально-апофеозной живописью и т. п. Здесь и сам Петр портретировался за границей у разных модных мастеров и посылаемым за границу «пенсионерам» давал больше простору, где и у кого учиться. Зато в отечественной, внутренней практике искусство было поставлено в условия, очень далекие от его положения в европейской культуре начала XVIII века; оно являлось частью ремесел и технических знаний, их подробностью. Петр, со своим ренессансным представлением о «добром мастере», требовал от приглашаемых на русскую службу европейских художников заключения универсальных контрактов на все виды художеств, иногда еще с прибавкой инженерии; естественно, что самым высоким типом импортируемых художников были архитекторы, объединявшие художественные и технические знания; наоборот, приезжие живописцы, которым начало XVIII века в европейском искусстве дало наибольшую специализацию, стояли на невысоком уровне. Что предстояло иноземным художникам делать в Петербурге и какой облик практически принимал ренессансный универсализм в петровских условиях 1710-х годов, это показывают работы Таннауера, Каравака и Гзеллей; они должны были писать все, от портретов высоких особ до изображения «курьезных» предметов кунсткамеры или зверинца, затем — вести малярно-покрасочные работы в дворцах и церквах, чинить и поновлять ветхие полотна и росписи, изготовлять декорации для торжеств и спектаклей. Это приводило к тому, что и обучение русской молодежи искусству в 1710—20-х годах носило художественно-ремесленный характер. Выработка многостороннего мастера на деле решалась лишь в виде выпуска ремесленников малярного, лепного, гравировального дела из специальных классов при Оружейной палате, при Петербургской типографии, при Канцелярии строений и т. п. В живописи основная часть учащихся была собрана в 1715—1720-х годах в двух «школах» приезжих французов, — у лионца Ф. Пиллемена (в России с 1717 г. по 1723 г.) и у марсельца Л. Каравака (см.; в России с 1716 г. по 1754 г.); а в начале 1720-х. гг. к ним присоединилась еще третья группа, обучавшаяся у немцев, супругов Гзелль. Наконец, в гравюре при Петре I сложилась не только иностранная школа в лице голландца А. Шхонебека (1661—1705; в России с 1698 г.) и его пасынка, француза П. Пикара (1670—1737; в России с 1702 г.), но и своя, отечественная, в лице И. Адольского-большого (умер в 1730 г.), А. Зубова (ум. в 1741 г.) и И. Зубова (умер после 1744 г.), не крупных, но добросовестных мастеров, мало чем уступавших в технике приезжим иноземцам (см. XVI, 363/64, прил., 7).
В той мере, в какой оставалась потребность в художниках высшего класса, задача решалась посылкой немногих; избранных юношей за границу. Творчество этих первых «пенсионеров» представляло собой высшую точку русского искусства петровской поры, — точнее, первого тридцатилетия XVIII в., поскольку они вернулись лишь в двадцатых годах и развернули работу собственно уже в послепетровское время. Преимущественно это были живописцы. А. Матвеев совершенствовался в Голландии и обучался разом «портретной» и «исторической» живописи; М. Захаров учился исторической живописи в Италии; братья И. и Р. Никитины были портретистами, и им позволено было работать даже в двух странах, в Италии и во Франции. Эти петровские «пенсионеры» оказались не только равны приезжим иноземным живописцам (Таннауер, Каравак, Гзелли), но частично даже выше их, причем особенно надо отметить, что часть «пенсионеров» сознательно выдвигала национальный склад своего искусства, русские народные художественные черты в их новом облике, в противовес обезличенному подражательству Западу. К сожалению, достоверных работ А. Матвеева (1701—1739; см.) сохранилось очень мало («Аллегория живописи», 1725; «Автопортрет с женой», 1729); они говорят о совершенно объевропеившемся, но неподвижном в своей условной элегантности даровании. Еще более скудно наследие Романа Никитина (1689—1753), сочетавшего европеизм с «парсунными» пережитками («Васса Строганова»); совсем нет произведений М. Захарова; наоборот, произведений Ивана Никитина достаточно, чтобы отразить совершенный им путь. Его творчество составляет важнейшее событие русского искусства всей первой половины XVIII в. Иван Никитин (1688—1741), который был много старше Матвеева и пришел в искусство типическим петровским выдвиженцем, попробовавшим кисти у Таннауера, побывавшим певчим в хоре и учителем «цыфири в артилерной школе», поторопился вернуться из-за границы и не взял там всего, что мог взять. То новое, что он принес в русский портрет, выявилось не сразу; вначале он должен был отвечать ожиданиям и требованиям русских «талантов» 1720-х годов и выказывать модное жеманство «с манеру французского»; таков, прежде всего, его «Портрет барона С. Строганова» (1726), а также более сдержанные и более изысканные портреты цесаревны Елисаветы и «Придворной дамы»; зато в круглом холсте «Портрет Петра I» (1721) есть никитинское своеобразие: условно-декоративную, играющую привычным набором светотеневых эффектов манеру здесь оттесняет прямой, зоркий взгляд художника на модель, реалистичность изображения, отчетливая характеристика человека. Разрастание реалистических начал, суровая правда сквозь костюмный маскарад (таковы портреты А. Ушакова, Г. Чернышева и, особенно, превосходный портрет Г. Головкина) составляют основу никитинского портретизма, а переход от высочайших и вельможных особ к изображениям более простых и близких людей ознаменовывается даже появлением своеобразных, народно-русских черт. Зрелая пора творчества И. Никитина простотой композиции, сдержанностью живописи связывается с русской «парсуной» XVII в., но без ее скованности и ремесленничества, а прямизной характеристик — с портретами Антропова 1750-х гг., но без их однообразия. Лучшим же выражением такой народной реалистичности изображения является никитинский «Напольный гетман», замечательная вещь, первый «интимный портрет» — человек, изображенный запросто, близко и верно, — подлинная веха в истории русского искусства. Наличие народных тенденций в искусстве обоих Никитиных (прогрессивное, реалистическое — у Ивана Никитина, реакционное, парсунное — у Романа Никитина) есть явление большой принципиальной важности, ибо свидетельствует о программности взятого Никитиными направления. Это отражало их общественно-политические позиции в послепетровские годы: братья были в кружке московских оппозиционеров 1725—1730 гг., где передовые идеи были причудливо смешаны с реакционными, поскольку европеизм Петра при его ближайших преемниках действовал одними теневыми следствиями.
1730-е годы — самая глухая и неплодотворная пора в развитии русского искусства XVIII в. — прямой результат распада петровской: системы, династической чехарды, произвола временщиков, общего культурного застоя. Все творчество русских художников, в сущности, сводится к работам одного А. Матвеева, получившего как раз с 1731 г. звание «мастера» при Канцелярии от строений и усиленно работавшего «на казну», но преимущественно в прикладной живописи; однако сделанное им в эту пору не сохранилось. В иностранной же группе художников в 1730—40-х гг. был лишь один подлинно большой мастер — скульптор Растрелли-отец (см.; в России с 1716 г.), составивший эпоху; надо еще упомянуть более скромного, но опытного гравера Х. А. Бортмана (1680—1760; см. XI, 303/04, и XVI, 363/64, прил., 7).
Начальную елисаветинскую пору характеризуют несколько заезжих иностранцев. Лучшим из них был Г. Гроот-старший (1716—1749; см.), типический представитель немецкого портретного рококо, наиболее удачливый тогда, когда сосредоточивал усилия на нарядном костюме своих моделей; такова «серебристая» гр. Шереметева, нарядный конный портрет императрицы Елисаветы с арапченком и т. п. Наиболее чистого проявления это импортное рококо достигло, как обычно, в декоративно-прикладных жанрах — у скульптора-орнаменталиста Луи Роллана (1711—1791; в России — с 1746 г.), давшего ряд отличных композиций декоративного ваяния (вазы с цветами и др.), и у перспективистов-декораторов, прежде всего — Дж. Валериани (в России с 1742 г., умер в 1761; см. VII, 503), превосходного мастера итальянского барокко, и затем, у А. Перезинотти (1708—1778; в России с 1742 г.), художественно мало значительного в своих условно декоративных «руинах», но важного в качестве педагога, обучавшего своих русских учеников искусству пейзажа.
На всю эту иноземную группу живописцев в 1740—50 гг. приходится один русский — Иван Вишняков (1699 — после 1762), но его наследие более чем скудно; сохранилось лишь четыре-пять бесспорных его работ. Наиболее удачны у него оба портрета детей Фермор (1745), подлинное «русское рококо», смесь изысканности и примитивности, живости и «парсунности». Такое же особое положение в эти годы было в области русской гравюры у вортмановского выученика Ив. Соколова (1717—1757; см. XL, 37), но с тем различием, что он был гравером общеевропейского уровня в портретах и петербургских видах; но он был совсем уж одинок.
Иной и по тенденциям и по художникам была другая половина елисаветинской поры (1750—1760 гг.), ставшая переломной в русской культуре вообще и в русском искусстве в частности. Уже учреждение, спустя два года после открытия Московского университета (1755), специальной Академии Художеств (1757) говорит о новых тенденциях, а направление академической работы и состав ее руководителей свидетельствует о приходе с Запада новых идей и новых форм. К 1750-м годам елисаветинское искусство жило сложной, непохожей на прежнюю, жизнью; во-первых, важно расширение его границ: они уже охватывают все художественные жанры, хотя иногда еще и ученически; к крепко и давно освоенному портретному жанру (в живописи, скульптуре, гравюре) присоединились попытки полносторонне охватить «исторический» жанр (батальный, мифологический, религиозный и т. д.), затем — перспективно-пейзажный (в живописи и гравюре), наконец — театрально-декоративный. Через три года после учреждения Академии, в 1760 г., возобновляется заграничное пенсионерство, по петровскому примеру, но применительно к опыту французской Академии, отправлявшей в Рим на доучивание своих лауреатов. Наконец, еще важнее было существо взятого Академией нового направления русского искусства в 1750—1760 гг. впервые стало многостильным и узнало соревнование различных течений. Это соответствовало новым особенностям его общественной базы. Учреждение Академии Художеств, со многими десятками молодых учеников, заложило фундамент массовой художественной профессионализации и далеко идущей демократизации ученического состава, поскольку обучающиеся были сплошь из мелкого люда, детьми ремесленников, низших служащих, солдат и т. п. Но и в господствующем классе вкус к искусству уже принимал все более широкие очертания, постепенно входя в обиход дворянских семей. Именно в 1750-х годах преподаватель Академии Наук Э. Гриммель с успехом открывает своего рода общедоступные курсы рисунка с гипсов и с натуры, а Де-Вельи обучает тому же публику и приватных учеников по договоренности с Московским университетом. В самом искусстве выявляют себя в 1750—1760-х гг. три слоя: во-первых, основная официальная линия государственного созидания и государственного преподавания искусства — это линия Академии Художеств; во-вторых, интимно-дворцовое искусство, отвечающее личным вкусам и заказам императрицы и высшей знати; оба эти слоя — западнические, опирающиеся на новые приезжие группы иностранных художников; наконец, третий слой, который можно назвать собственно русским, — это искусство русских мастеров, преломивших сквозь национальную призму западные уроки и являющихся по существу единственно законными представителями русского искусства поздне-елисаветинской поры. Линия Академии Художеств, или «шуваловская», по имени ее главного вдохновителя и проводника И. И. Шувалова, выполняла в России ту же роль, что и на Западе, давая художественную идеализацию начинаниям и делам государственной власти; приход в Россию академического классицизма как стиля и первенствование «исторической живописи» как жанра над портретом и другими разновидностями как раз сопутствуют елисаветинским 1750-м годам, когда Россия приняла победное участие в Семилетней войне и когда во внутренней политике дворянско-помещичий класс получал одну за другой гарантии своего первенствования в государственной жизни страны. С прибытием в Петербург Н. Жилле (1709—1791; см.), Де-Вельи (приехал в 1754 г. или 1759 г.), Ле-Лоррена (1715—1759), Л. Лагрене-старшего (1724—1805; см.) появился стиль академического классицизма, представленный своим французским вариантом и осуществленный типическими, хоть и не первоклассными мастерами. Академия Художеств была передана Шуваловым в их руки. Н. Жилле, пробывший в России с 1757 по 1777 гг., все эти двадцать лет руководил скульптурным классом Академии, подготовив блистательную плеяду екатерининских скульпторов — Прокофьева, Шубина, Козловского, Ф. Щедрина, — и именно это, а не собственное творчество, было его главной заслугой. Живописными классами Академии руководили, сменяя друг друга, Ле-Лоррен, Де-Вельи и Лагрене-старший. Но рядом с неоклассикой была и другая партия, культивировавшая другое искусство: сама стареющая Елисавета оставалась верна вкусам своей молодости, а с императрицей — и ее интимное окружение; не препятствуя гегемонии академического классицизма в государственном преподавании и официально парадных функциях искусства, Елисавета и в конце 1750-х гг. привлекала к себе на работу художников отживающего рококо: в 1756 г. приехал: итальянец Пьетро Ротари, и в этом же: году, по специальной просьбе, был на время отпущен в Петербург из Парижа, для писания царицына портрета, француз Луи Токке. П. Ротари (1707—1762; см. XXXVI, ч. 6, 249/50) может быть назван воплощением общедоступной легкости и нарядности портретного рококо. Такую же внеакадемическую борозду в русском искусстве провел блестящий и вместе с тем много более жизненный Л. Токке (1666—1772; см. XLI, ч. 8, 267/68), за короткие восемнадцать месяцев пребывания в Петербурге (1756—1758) произведший на русскую художественную молодежь впечатление, долго спорившее с влиянием портретизма Академии Художеств. Третьим французским художником того же поздне-елисаветинского рококо, но художником, работавшим уже не в портретном, а в «бытовом» жанре, был Ж. Б. Лепренс (1734—1781; см. XXVII, 50/51), основную часть своего пятилетнего пребывания в России (1758—1763) посвятивший изображению русского быта; он был тут пионером и исколесил Россию вдоль и поперек. Правда, в его зарисовках русская действительность переработана применительно к манерной грациозности рококо. У Лепренса в лучшем случае от быта остается чисто внешняя, костюмерная и обрядовая сторона, как в известном лепренсовском холсте «Русские крестины» (1765) или в его нескольких иллюстрациях к книге Chappe d’Auteroche «Путешествие по Сибири». Тем не менее, русская серия Лепренса была историческим этапом, предвестием будущего пробуждения внимания художников к русской народной жизни. Наконец, в области гравюры к группе французских мастеров позднеелисаветинского рококо надо в значительной мере причислить, несмотря на его немецкое происхождение, знаменитого гравера-портретиста Г. Ф. Шмидта (1712—1775; см. L, 307/08).
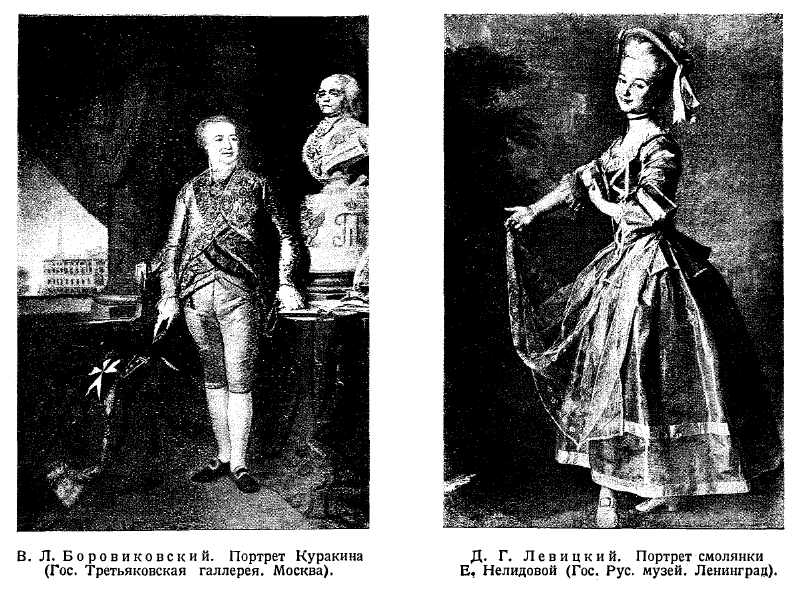
В. Л. Боровиковский. Портрет Куракина (Государственная Третьяковская галерея. Москва).
Д. Г. Левицкий. Портрет смолянки Е. Нелидовой (Государственный Русский музей. Ленинград).
Русская группа живописцев 1750—1760-х годов — это мастера с культурной преемственностью и национальной печатью, подлинные звенья в общей цепи русского искусства Прежде всего таков А. П. Антропов (1716—1795; см.), солдатский сын по происхождению, универсальный живописец по выучке и портретист по при званию. Он проделал на себе вкратце всю эволюцию аннинской и ранне-елисаветинской живописи, но проявил подлинную силу и остался в русском искусстве только как портретист. В тех его портретах, которые не имеют придворно-официального назначения, жизненная зоркость и правдивость изображения намного превышают условности портретного этикета рококо и остатки старинной «парсунности» и делают Антропова центральным событием русской живописи 1750—1760-х годов; антроповские изображения Бутурлиной (1763), Румянцевой (1764) и, в особенности, более ранний, замечательный портрет Измайловой (1754) можно назвать канонами подлинного русского портрета середины XVIII в. Антагонистом Антропова являлся И. П. Аргунов (1727—1802; см.), крепостной, один из художественной плеяды шереметевских Аргуновых. Он удачно делал свои портретные композиции в духе прибывающих к нам из-за рубежа руководящих мастеров, являясь одним из наиболее типических примеров русского усвоения западных шаблонов портретизма середины и конца XVIII в. («Умирающая Клеопатра», 1750; «Лобановы-Ростовские», 1750—54; «Ветошникова», 1786—1787; «Портрет скульптора Ф. Шубина и его жены»), Аргунову отдана была в обучение целая группа учеников, «спавших с голоса» певчих, менявших профессию: Лосенко, Головачевский, Саблуков; у него же учились собственный его сын Н. Аргунов (см.) и молодой Рокотов.
Вторая половина XVIII века — это расцвет русского искусства. Все «три знатнейших художества», по тогдашней терминологии, выдвинули в екатерининскую пору больших людей, равноценных своим западным современникам и решающих, для образования зрелого национального облика нового русского искусства; таковы в архитектуре — Баженов, Казаков, в живописи — Рокотов, Левицкий, Боровиковский, в скульптуре — Шубин, Козловский, Мартос. Шестидесятые-девяностые годы дают и еще одно доказательство наступившей художественной зрелости: «изгнание иноземцев», вытеснение их с руководящей роли в русской художественной культуре; впервые иностранные мастера перестают первенствовать и в педагогическом отношении — русские художники отныне сами ведут воспитание молодежи, профессорствуют почти во всех классах Академии Художеств и делают это с полным правом, ибо они не уступают лучшим из западных сверстников.
В искусстве екатерининского времени намечается наличие нескольких периодов, соответствующих социально-историческим вехам екатерининского времени: первый период — 1762—1774 гг., от свержения Петра III до ликвидации крестьянской войны; второй — 1774—1791 гг., годы расцвета дворянско-крепостнической империи, от одоления Пугачева до разрыва с революционной французской республикой; третий период — 1791—1801 годы, от разрыва с Францией до убийства Павла, поскольку павловское четырехлетие в искусстве, так же как в общественной жизни, составляет лишь деталь екатерининского заката.
1760—1770-е годы — пора наибольшего заигрывания Екатерины со свободомыслием и европеизмом; и в искусстве это — пора наиболее ощутительного западного воздействия. Энциклопедисты были в эту пору советчиками и руководителями русских вкусов не только в идейно-писательской, но и в художественно-изобразительной области; советы Дидро или Гримма выслушивались и выполнялись тут тем готовнее, что это выглядело почетной компенсацией за уклонение от их рекомендаций в делах государственного порядка. Французское направление художественных мероприятий 1760—1770-х годов надо подчеркнуть тем отчетливее, что в нашей искусствоведческой историографии установилось положение, что при Екатерине французы были вытеснены немцами, скандинавами и пр. Этому противоречат факты и документы. Французское влияние шло через несколько каналов. Во-первых, с самого начала царствования, в течение двух десятилетий, шли обширные закупки французского прикладного искусства, обновлявшие и увеличивавшие елисаветинское наследство в дворцовой обстановке и придворном обиходе; закупалась и импортировалась французская мебель, парижские ювелирные изделия, лионские ткани, севрский фарфор, многократно приобретались гобелены; обширные закупки сделал и Павел во время своего великокняжеского путешествия за границей в 1782 г., а во след царице и наследнику, с верноподданным усердием и тщеславной расточительностью, ввозила в свои дворцы и поместья изделия французской художественной промышленности и екатерининская знать; именно в екатерининскую пору создались в России основные и огромные запасы французских художественных изделий, накупленных Шуваловыми, Голицыными, Юсуповыми, Строгановыми, Демидовыми, Куракиными и т. д. Вторым каналом были закупки во Франции целых коллекций «высокого искусства» — живописи, скульптуры, рисунков, гравюр (знаменитая коллекция Кроза, часть собрания Шуазель и пр.), а равно покупки произведений здравствовавших художников (М. Ван-Лоо, Греза, Г. Робера, Ж. Верне, Гудона и др.). Третьим каналом французского влияния в 1760—1770-х гг. были иностранные мастера, приехавшие работать в Россию; собственно, национальный состав их пестр, это вовсе не одни французы, есть и датчане, итальянцы, немцы, но и по численности и, особенно, по удельному весу первое место принадлежало французам; датчане представлены В. Эриксеном (1722—1782; см.), итальянцы — С. Торелли (1712—1784; см.)и Ф. Фонтебассо (1709—1769), немцы, — в сущности, одним К. Христинеком; французы же занимали все десятилетие монопольное положение в скульптуре и гравюре, а в конце десятилетия никому не уступали и в живописи; тут были портретисты: Н. Б. Делапьер (1730 — после 1789), Ж. Л. Вуаль (1744 — после 1802; см.), П. Фальконе-младший и др.
В скульптуре и в гравюре французы являлись в точном смысле слова монополистами, тем более что в скульптуре была такая подавляющая величина, как Фальконе-старший, да еще в сопровождении превосходной ученицы, юной Марии Колло. Этьенн Фальконе (1716— 1791; см.), вызванный по рекомендации Дидро, был лучшим подарком «энциклопедиста» искусству екатерининской России. Основным делом Фальконе было осуществление знаменитого памятника Петру I (1765—1770), одного из величайших произведений мировой мемориальной скульптуры, так крепко вросшего в русскую культуру, что нам надо делать усилие, чтобы считать его созданием французского искусства; и в самом деле, в общем, изнеженно-грациозном творчестве Фальконе «Медный всадник» — грандиозное исключение, своего рода итог скрещения, второго после Растрелли, русских и иноземных тенденций в скульптуре. В петровском монументе, создав общую величественную композицию, Фальконе отступил перед головой Петра и передал создание ее своей семнадцатилетней ученице Марии Колло (1748—1821; см. XXIII,184), более мужественной в ваянии, чем ее учитель: грозная голова Петра родственна ее сдержанным, уже слегка обобщенным бюстам, предвещающим наступление неоклассицизма в ваянии (изваяния великого князя Павла, его первой жены, графини Орловой, А. Соколовой и др.). Лишь ее бюст самого Э. Фальконе (1768) выходит из этого ряда мягкостью лепки и жизнерадостностью выражения, непосредственно передающей облик скульптора. Французская монополия в гравюре не дала таких результатов; ни краткие наезды Луи Бонне (1734—1793) и Б. Генрикеза (1732—1806), ни длительное пребывание А. Радига (1721—1809; в России с 1764 г.) не оставили большого художественного следа. Первенство оказалось у молодого русского мастера, ученика Шмидта, недолговечного, но блестящего Евграфа Чемесова (1737—1765; см.), который за короткий срок своей работы создал русскому резцу главенствующее место в отечественной гравюре [портреты императрицы Елизаветы (с Токке, 1761), графа Миниха (1764), особенно — виртуозное изящество портрета И. Орлова (1765), и др.]. Чемесов — наиболее чистое проявление французского рококо в русской гравюре, целиком обращенное лицом назад, к елисаветинской середине столетия; это — мастер, в сущности, запоздавший родиться. Наконец, при Екатерине сохранена была и елисаветинско-шуваловская традиция посылки молодых художников за границу; исходным местом пенсионерского обучения по-прежнему оставался Париж, откуда затем пенсионеры для доучивания направлялись в Рим. Поскольку, однако, Екатерина выставляла себя ревнительницей национального государства и покровительницей национальной культуры, государственное управление искусством русифицировалось; это проявилось в двух основных областях государственного воздействия: в предоставлении заказов русским художникам и, особенно, в назначении русского преподавательского персонала в Академию Художеств; с 1770-х гг. иностранцы в составе Академии появляются вообще в виде исключение, на пустующих почему-либо местах. Более того, с тех же 1760-х гг. устанавливается положение, что все приезжающие иностранные художники, прежде принятия их на русскую службу, должны получить аттестацию петербургской Академии Художеств. Далее — в академических классных и выпускных заданиях рядом с традиционными, общеевропейскими темами мифологической классики впервые появляются сюжеты на русско-патриотические темы, на события отечественной истории; сначала это — одиночные пробы, но с 1770-х годов это — устойчивые, ежегодные темы из «российской истории»: «Владимир и Рогнеда», «Ранение Изяслава Мстиславича», «Возвращение Святослава в Киев» и т. д. Однако русские темы вводятся лишь в высокое искусство «исторической живописи» и «исторической скульптуры», — ни русский пейзаж, ни русский быт еще не получают для себя места. Ряд организационно-практических мероприятий предпринимается и для увеличения веса изобразительных искусств в общественном обиходе: во-первых, с 1764 г. образовывается самодовлеющая общегосударственная «Академия трех знатнейших художеств» (живописи, скульптуры, архитектуры); во-вторых, для привлечения общественного внимания к искусству начиная с 1763 г. проводятся публичные акты в Академии, выставки ученических работ и аукционы их, а в 1770 г. устраивается первая выставка работ зрелых мастеров; в-третьих, внутренняя программа академического обучения предусматривает большое разнообразие специальностей; 1760—70-х гг. ведется преподавание: живописи исторической, живописи портретной, живописи ландшафтной, живописи батальной, живописи домашних упражнений (т. е. бытовой), живописи цветов и фруктов, живописи зверей и птиц; скульптуры статуйной, скульптуры орнаментной, скульптуры медальерной; гравирования исторического, гравирования портретного, гравирования пейзажного и т. д. Наконец, в отношении привлечения учащихся регламент раскрывал академические двери «всякого звания российским подданным» с одной капитальной оговоркой: «кроме крепостных людей, не имеющих от господ своих вечного увольнения».
Основная масса выучеников екатерининской Академии оставалась той же, какой была в елисаветинскую пору, — дети мелкого ремесленного, мастерового, служилого люда всяческих видов и профессий; но в сравнении с елисаветинским составом численность и разнообразие их возросли в огромной степени: не только рядовые и мало заметные художники 1760—1790-х годов, но и все главные, решающие имена русского искусства второй половины XVIII в. связаны с этим слоем. Таковы живописцы: Андрей Иванов — подкидыш, из воспитательного дома, С. Щукин — такой же подкидыш, И. Акимов — сын наборщика, Ф. Алексеев — сын сторожа, С. Щедрин — сын солдата, и т. д.; скульпторы: Прокофьев — сын закройщика, Гордеев — сын скотника, Демут-Малиновский — сын резчика, Федор Щедрин — сын солдата, Козловский — сын корабельного мастера, и т. д.; прибавим к этому нескольких выходцев из мелкого духовенства и купечества: Левицкого — сына священника, Лосенко — сына подрядчика, Угрюмова — сына торговца; далее — крепостных: потемкинского М. Шибанова, голицынского П. И. Соколова, шереметевского Н. Аргунова, дьяконовского Кипренского, морковского Тропинина, строгановского Воронихина, и т. д., — и станет ясно, какой в полном смысле слова низовой слой создавал в течение целого полувека основные ценности и капитальный облик нового русского искусства, заполняя не только екатерининско-павловское время, но и всю первую половину александровской поры. Такого положения не будет в истории русского искусства ни разу. Это значит, что огромный и не повторившийся в течение целого столетия расцвет художественного творчества во второй половине XVIII в. должен быть отнесен за счет запаса огромных народных сил, прорвавшихся в русское искусство.
Основная группа этих художников созрела и вышла на арену лишь в 1770-х гг.; первое десятилетие нового царствования оставалось еще бедным и силами и уровнем. Наиболее резко это сказалось в области скульптуры и гравюры: 60-е годы у екатерининских ваятелей и граверов проходят в учении, петербургском и зарубежном. Немногим богаче живопись. Лишь два художника, сыгравшие позднее значительную роль, выступают в эту пору: Лосенко и Рокотов. А. П. Лосенке (1737—1773; см.) полностью прошел школу французского неоклассицизма, сначала в Петербургской академии, затем за границей,: сам стал первым русским неоклассиком, был превосходным рисовальщиком и неплохим живописцем, но не переработал западных стандартов «исторической живописи» на русский лад. Те же свойства сказались и в учениках Лосенко. В противоположность Лосенко Ф. С. Рокотов (1730-е — 1810; см.) не прошел ни через заграничное пенсионерство, ни через академический классицизм; он в значительной мере самоучка по технике и немодный художник по стилю. Он не сравним ни с кем из сверстников, это — огромный мастер, один из наиболее значительных русских живописцев вообще и нашего XVIII века — в особенности. Он начал копиистом и подражателем в императорских и вельможных портретах конца 1750-х годов, достиг расцвета в 1770—1780-е гг. и медленно ослабевал, с отдельными прекрасными вспышками дарования, в 1790-х годах. По воспитанию и по первой художественной возмужалости он — позднеелисаветинский художник и сохранил эту основную черту на всю жизнь: есть, в прикрытой форме, эстетика позднего рококо во всех его портретах и, чем они совершеннее, тем отчетливее она сказывается. Рокотов — «гедонист» и художник для «избранного круга». Нужен был глаз разборчивого знатока, ценителя оттенков, чтобы отдавать должное тонкостям рокотовской палитры, особенно в портретах 1770-х годов («Воронцовы», «Римский-Корсаков», «Вырубов», «Самарина», «Обрезковы», несколько «Неизвестных», «Орлова» и т. д.). В отличие от Рокотова тридцатипятилетний Д. Г. Левицкий (1735—1822; см.) стал сразу же, как только выступил на исходе 1760-х гг., общим любимцем. Он цельнее, жизненнее и стремительнее Рокотова. Он с самого начала не задерживался на подражательстве и не преувеличивал своей самобытности: он говорил общепринятым живописным языком своего времени; его своеобразие создавалось чисто внутренним напором таланта, а не тягой к внешней необычайности палитры и приемов. Выступив самостоятельно в 1769 году портретом архиепископа Кокоринова, изумительно зрелым и свободным, превосходно уравновешенным в составных частях, — в традиционности композиции и в свежести живописи, в естественности характеристики и в условности позы, — во всем том, что и в дальнейшем составит своеобразие его портретного мастерства, Левицкий продолжил это в блестящем ряде портретов 1769—1772 гг. и завершил свой дебют в 1773—76 гг. «Смолянками». Нет сомнения, что ничего более значительного Левицкий не создал; в «Смолянках» есть какой-то взрыв молодых сил блестящего дарования; даже в портретной живописи всеевропейского XVIII века немного произведений в состоянии поспорить с непринужденной монументальностью, живописным блеском, естественной выразительностью и жизненным разнообразием «Смолянок»; в русском же портрете это было вообще небывалым явлением после традиционно-помпезных, принудительно-церемонных царских изображений.
«Смолянки» по времени возникновения располагаются на самом переходе от первого екатерининского периода во второй; они написаны в период страшного потрясения государства крестьянской войной 1773—1774 гг. во внутренних делах и раздела Польши (1773) и одоления Турции (1774) — во внешних; победами тут и там екатерининский строй был упрочен, наступил период самого большого блеска помещичьей империи с казовой стороны и самого хищнического, крепостного истощения дарового народного труда. Именно теперь екатерининскому искусству сугубо пришлось выполнять свою роль украшателя государственного фасада, глашатая всеклассового довольства, восхвалителя правительственной мудрости. Все екатерининское искусство — парадно-представительное. Попытки противопоставления были, по-видимому, сделаны в период Пугачевской войны и шли снизу: портрет Пугачева, писанный поверх казенного изображения Екатерины II (Исторический музей), является редчайшим остатком довольно значительной, вероятно, серии живописных холстов, лубочных листов, может быть деревянных гравюр, которые неизбежно должны были взамен официальных екатерининских портретов распространяться в крестьянских массах, в городских низах как средство агитации и вывешиваться после побед Пугачева во взятых городах и селениях; художниками, судя по уцелевшему портрету Пугачева, являлись крепостные мастера, освобожденные крестьянскими победами 1773 года; в районе восстания, в поволжских поместьях и городах, их было достаточно. Разгром движения должен был привести к систематическому уничтожению крамольного искусства; портрет в Историческом музее — единичный обломок среди огромной по численности и разнообразной по качеству репрезентативной портретописи высшего русского общества 1770—1790-х годов.
Парадная портретопись, в самом деле, — главенствующий жанр екатерининского искусства. «Исторический жанр», официально первенствовавший в табели о рангах всех европейских академий искусств, выходил из русского XVIII века, уже вырождаясь, хотя таки не знал поры расцвета. Ни И. А. Акимов (1754—1814; см.), ни В. Родчев (1768—1803), ни даже П. И. Соколов (1743—1791; см.) не смогли поднять историко-мифологическую живопись до высоты екатерининского портрета. Еще более скудно развивались бытовая живопись и пейзажная живопись. Особенно слаба была бытовая живопись: высшее общество и равнявшееся по нему среднее дворянство еще не допускало публичного своего изображения в повседневной обстановке и будничном облике, а великая громада крестьянства привлекала кое-какое внимание к укладу своей жизни лишь по свежим следам бурь крестьянской войны: очень немногие и единственно весомые произведения на деревенские темы датируются ближайшими годами к этой страшной для дворянства поре; таковы два редчайших монументальных полотна, вышедшие из-под крепостной кисти потемкинского художника М. Шибанова (даты жизни неизвестны), изображающие «Обед» (1774) и «Свадебный сговор» (1771) крестьян «Суздальской провинции, села Татарова», — композиционно-тяжелые, живописно-неловкие, но изумительные непосредственной жизненностью и свежей силой образов. После шибановских крестьян на всем протяжении последней четверти века бытовые сюжеты будут попадаться лишь в виде единичных работ, всегда лишенных шибановской силы и свежести, иногда занимательных бытовыми деталями, как в крестьянских зарисовках загадочного И. Ерменева, чуть заметно мелькнувшего в русской графике, а чаще неуклюже имитирующих традиционные фламандско-голландские образцы, как это делал И. М. Танков (1739—1799; см.) или И. Ф. Тупылев (1758—1821).
Пейзаж получил более заметное развитие и в центральную екатерининскую пору и на исходе XVIII в., но он тоже не выходил за пределы очень малого количества мастеров и очень тесного круга сюжетов. Спрос на ландшафты был велик, но удовлетворялся импортными произведениями и крепостными изделиями, между которыми проходила очень узкая прослойка русского академического пейзажа, представленная Сем. Щедриным (1745—1804) и Ф. Я. Алексеевым (1753—1824; см.), да посредственным, хотя и правдивым М. М. Ивановым (1748—1823; см.).
Очевидно, что даже соединение всех трех жанров — исторической, бытовой и пейзажной живописи — не уравновесит портретописи 1770—1790-х годов. Рокотов, Левицкий, Боровиковский — общеевропейские величины, равные знаменитейшим портретистам своего времени. И прежде всего таков Левицкий средне-екатерининской поры. Разнообразие и щедрость его портретного искусства исключительны: от монументально-парадного портрета до интимно-комнатного изображения, от российской императрицы до приходского священника, через великих князей, княжен, фаворитов, министров, генералов, вельмож, фрейлин, куртизанок, писателей, купцов, он охватил все, что носит название «екатерининского общества», останавливаясь у границ того, что, по понятиям времени, находилось вне этого названия: трудовая масса, крепостное крестьянство, мастеровой люд не нашли себе места в галерее изображений Левицкого. Его уменье воссоздавать людей — вершина реализма в русском портретном искусстве XVIII века; он зорок, но тактичен, умен, но сдержан, насмешлив, но не вызывающ; он говорит «истину с улыбкой», и это определение мог бы применить к себе со много большим правом, чем риторический Державин. Только в одном случае Левицкий отступил от своей уравновешенности и трезвости — в знаменитой парадно-дворцовой композиции «Екатерина-законодательница» (1783) и ее заказных вариантах; но это, в сущности, не портрет, а «апофеоз», «историческая живопись», где Левицкий вступил в соревнование с присяжными историческими живописцами и остался победителем. Рядом с такой творческой щедростью Левицкого даже Рокотов в 1780-х годах кажется скудным и односторонним, хотя на эти же 1780-е годы приходится достаточное количество его превосходных портретных «гармоний»: именно в эту пору написал он оба изумительных женских портрета — два овала: «Графиня Санти» (1780-е годы) и «Неизвестная» (1780; Третьяковская галерея); выше по тончайшей живописности Рокотов ничего не сделал.
Плеяда младших портретистов вокруг Рокотова и Левицкого, на переходе к основному мастеру 1790-х годов, к Боровиковскому, обширна и достаточно внушительна. Далеко не всех мы можем по состоянию русского искусствоведения назвать сейчас по именам. В наших музеях имеется большой ряд прекрасных портретов, которые до сих пор не связаны ни с каким определенным художником; с другой стороны, в документах Академии Художеств наличествует ряд имен, с которыми не связано ни одного определенного полотна. Но и портреты, сделанные анонимами, и те имена, с которыми точно связаны определенные произведения, свидетельствуют, что в совокупности это — крепко обученные, и умелые художники, частью средних дарований, как Е. Д. Комяженков (1760—1820), автор портрета И. Гроота (1790) и нескольких мужских и женских портретов (лучший — «Молодой человек», 1790), как Л. Миропольский (1750—1819), сделавший хороший портрет Г. Козлова (1790-е годы) и изображение супругов Вяземских (1780-е годы), как М. И. Бельский (1753—1794), автор неплохого портрета М. Бортнянского (1788), частью же превосходные мастера, как П. С. Дрождин (1745—1805), обладавший собственным отношением к модели и собственной палитрой в живописи, но затертый жизнью и очень неплодовитый; его «Юноша в голубом кафтане» (1775), «Семейный портрет художника Антропова» (1776), портрет жены императора Павла, Марии Федоровны (1790-е гг.) говорят о незаурядной художественной индивидуальности, о пристальном, но ненавязчивом внимании к человеку и нарядной, но мягкой гамме колеров.
В сравнении с портретописью, граверное мастерство значительно отставало; самое число граверов за екатерининско-павловское сорокалетие очень невелико, причем большинство из них — копиисты-ремесленники, изготовлявшие картинки для продажи вразнос, для украшения народных книжек и письмовников и работавшие на фабриках церковных и светских лубков. Но и в высокой гравюре дела сложились так, что на протяжении целого тридцатилетия, с 1770 по 1800 гг., подлинно большим мастером в ней был только один Г. И. Скородумов (1755—1792; см.); младший его сверстник, второй настоящий талант екатерининской гравюры, И. А. Берсенев (1762—1789), умер спустя четыре года по окончании Академии, да и эти годы провел пенсионером в Париже, в обучении у Бервика, сделав всего на всего одиннадцать гравюр (ср. гравирование, XVI, 363/64, прил., 7).
Противоположное положение было в скульптуре. К 1770-м гг. выступает на арену основная плеяда екатерининских скульпторов: Шубин, Гордеев, Козловский, Федос Щедрин, Прокофьев, Мартос. С 1770-х гг. они постепенно возвращаются на родину после заграничного пенсионерства в Париже и Риме и с этой поры по конец века, и даже больше того — захватывая александровское время, дают ваянию не просто видное, но первенствующее место во всем русском искусстве. Такое главенство скульптуры в 1770-х—1810-х гг. обусловливается тремя обстоятельствами: во-первых, общим уровнем скульптурного мастерства, ибо в своих высших художниках скульптура не отстает от портретописи: Шубин, Козловский, Мартос не уступают в значительности Рокотову, Левицкому, Боровиковскому, являясь, как и они, не только общерусскими, но и общеевропейскими величинами, равными лучшим своим западным современникам — Пажу, Гудону, Канове, Торвальдсену, Нолекенсу и пр.; во-вторых, ваяние превосходит живопись ровностью высоты различных жанров, — в нем нет резкого отставания исторического жанра сравнительно с портретным; в-третьих, пребывание в заграничном пенсионерстве всей плеяды принесло с собой на родину новые передовые вкусы и идеи, которые продолжали развиваться в многолетней отечественной работе.
В нашей скульптуре отразился общеевропейский процесс перехода от барокко к неоклассицизму, но при этом сопротивление реалистических, с одной стороны, и декоративных, с другой стороны, элементов барокко напору отвлеченных, обобщающих тенденций неоклассицизма позволило проникнуть в русский классицизм большему реализму и декоративизму, чем в классицизм западный.
Екатерининскую скульптурную плеяду составляют три группы: первая группа обнимает Шубина и Гордеева, вторая — Козловского и Прокофьева, третья — Ф. Щедрина и Мартоса. Первые два дополняют друг друга: Шубин — барочный реалист, Гордеев — барочный классик. Однако, талантом и исторической значимостью они не равноправны: Шубин несравненно больше Гордеева — и дарованием, и влиянием, и продуктивностью. Ф. И. Шубин (1740—1805) — вообще самый большой из русских скульпторов. При всей своей жизненности реализм Шубина, однако, отнюдь не прорывает границ своей эпохи, но вместе с тем он извлекает все возможности, какие открывались для реалистической тенденции в кризисе барокко и в нарастании классицизма; от уходящего барокко у Шубина — элементы декоративной красоты в пластике «доличного», в костюмных аксессуарах; от надвигающегося классицизма у него строгость стиля, лаконизм приемов, равновесие частей; от реалистического живого взгляда на модель — основное содержание замысла и цель исканий. Гармония этих трех составных частей, такт в их сочетании у Шубина поразительны. Барочная эстетика определила шубинскую «Екатерину-законодательницу» и монументальный стиль его же «Пандоры» (1801); с другой стороны, тенденция классицизма, освобожденная от реалистических портретных задач, открыто проведена в барельефах на «исторические» сюжеты, сделанных Шубиным для Мраморного дворца в 1780 г. Вся же основная и разветвленная серия его зрелых портретных скульптур выполнена с тем барочно-красивым, но и классицистически-сдержанным реализмом, который составляет существо искусства Шубина: таковы, в особенности, бюсты А. Голицына (1773 г.), Н. Панина (1770-е гг.), неизвестного старика (1780-е гг.), М. Ломоносова (1793 г.), Е. Чулкова (1792 г.), Екатерины II (1774 г. и 1783 г.), Потемкина (1791 г.) и др. По прямому, открытому и независимому взгляду на модель Шубин в них вплотную подходит к классицистическому реализму такого высокого мастера, как Гудон; крепчайшие корни крестьянского происхождения Шубина (он — земляк Ломоносова), его парижское обучение у классико-реалиста Пигалля и его демократические вкусы и знакомства в позднейшие годы дали в этих шубинских бюстах свое наиболее чистое проявление.
В сравнении с таким глубоким и простым художником Ф. Г. Гордеев (1744— 1810; см. XV, 475) — беднее и поверхностнее, несмотря на замысловатость композиции и пышность техники; и все же это — отличный мастер, настоящий ваятель, с ясным глазом, твердой рукой, уверенным чувством пластики. Его специальность — мифология и надгробие, скульптура большого стиля; она развивается у него от декоративной сложности барокко к декоративной простоте неоклассики — развитие не прямолинейное и не последовательное, с колебаниями и воз-вратами, и все же отчетливое, поскольку работу Гордеева немного: начало — в неистовой барочности «Поверженного Прометея» (1769 г.), сделанного во время пенсионерства в Париже (1767—1773 гг.), продолжение — в надгробии Н. Голицыной (1780 г.), таком классицирующе спокойном по масштабам и контурам и барочно-шумливом по драпировкам и декоративным деталям; далее — еще более контрастное развитие обоих начал в надгробии Д. Голицыну (1799 г.), с отдельно вынесенным бюстом покойника, разрешенным в строго-римской неоклассике, какими позднее будут бюсты Мартоса и Гальберга, и с барочно-живописной, берниниевски-изогнутой постаментной композицией двух плачущих женских фигур; наконец, — перевес классицизма в академически-холодных барельефах Казанского собора (1804 г.), сделанных на исходе творчества.
Следующая «большая четверка», Козловский, Прокофьев, Ф. Щедрин и Мартос, по учению в Академии и по возрасту почти сверстники, но творчески расслаиваются: для Прокофьева и Козловского основное время творчества приходится на 1790-е—1800-е гг. (хотя Прокофьев пережил Козловского на четверть века), а для Мартоса и Ф. Щедрина, старшего из всех четырех, — на 1800—1810-е гг. Таким образом, на центральную екатерининскую пору, 1770—1790-е гг., падает лишь расцвет Шубина и Гордеева; для остальных это — лишь первые, хотя и значительные выступления.
Среди такого богатства, создаваемого соединенными усилиями русской живописи и скульптуры в 1770-1790-х гг., влияние иностранных мастеров было невелико, а в отдельных областях — ничтожно. Меньше всего оно было в скульптуре, поскольку в России не оказалось в эту пору ни одного значительного иноземца; Шубину и Гордееву противостоит один Д. Рашетт (1744—1809; см.); после Фальконе и Колло это было совсем незначительно. Ощутимее было влияние приезжих иностранцев в гравюре: в 1785 г. в Петербург был вызван англичанин Д. Уокер (1748—1808), пробывший в России шестнадцать лет, до 1801 г., и бывший, таким образом, целиком мастером екатерининско-павловской поры. Он привез с собою не только выдающееся мастерство, но и неведомую еще в России технику гравюры — «черной манерой». Однако непосредственно в русского искусства он оставил мало следов: у него было всего четыре ученика, из которых некоторой значимостью обладает один Ив. Селиванов (1782 — умер после 1808 г.), к тому же очень мало сделавший. В общем, черная манера не привилась в русской гравюре, и резцовая гравюра продолжала, с приездом в 1791 г. немца И. Клаубера (1754—1817), по-прежнему занимать главенствующее место (см. XVI, 363/64, прил., 7/8).
Только двум из приезжих иностранцев, живописцам Перроно и Рослину (Рослену) было бы по силам оставить действительный след в русском искусстве, и только один оставил его на самом деле — Рослин, поскольку знаменитый пастелист Ж. Б. Перроно (1715—1783) был в России лишь проездом, в 1781 г., и достоверных следов его работ не имеется. Зато двухлетнее (1775—1777 гг.) пребывание А. Рослина (1718—1793; см.) вызвало большой шум и сопровождалось обилием произведений. Этот успех был показателен для новых вкусов русского общества: изысканные, но непохожие, прельстительные, но вымышленные портреты рококо уже не удовлетворяли. Новые хозяева жизни хотели, чтобы в их изображениях были демонстрированы не только их знатность и богатство, но и они сами во всей индивидуальности своих черт. Это и давало им мастерство Рослина, почти двойственное в своих заботах передать столько же бытовую характерность облика модели, сколько декоративную пышность ее нарядов и драгоценностей: в этом специфика «барочного натурализма» Рослина.
Последний этап екатерининского (и павловского) искусства несравним с предыдущим, центральным периодом ни по яркости, ни по изобилию. Состояние искусства в эти, 1790—1800-е, годы можно выразить так: формальное совершенство еще держится, но внутренняя полнота уже на исходе; в противоположность литературе (книги и судьба Новикова, Княжнина, Радищева, радищевцев и пр.) искусство ничем не соответствует красочности и трагичности внешних и внутренних событий екатерининского заката. Центральное явление этих лет, буржуазная революция во Франции, не вызвало в русском искусстве борьбы направлений, как вызвало в литературе; искусство не расслоилось на охранительно-реакционное, компромиссно-либеральное, революционно-демократическое течения, а осталось на позициях светско-репрезентативного стиля.

А. Г. Венецианов. Гумно (Государственный Русский музей, Ленинград)
Основным художником этого периода является живописец, и опять-таки портретист, последний из «великой троицы», — В. Л. Боровиковский (1757—1825; см.). Значимость Боровиковского отчетливо вырисовывается при сравнении с другими живописными жанрами. Бедность «исторической живописи» продолжается, хотя на арену и выступила новая величина, Г. И. Угрюмов (1762—1823; см.); трудолюбивый и целеустремленный художник, он, однако, интересен, главным образом, как педагог, учитель «исторических живописцев» начала XIX века, А. И. Иванова, Шебуева, Егорова и других, а в художественном отношении — русской линией своей тематики: «Взятием Казани» (1796—98), «Призванием Михаила Романова на царство» (1796—1798), «Въездом Александра Невского в Псков», — большими полотнами классико-академического стиля и пастозно-темной красочности. Примерно так же обстоит дело с пейзажной живописью: главная фигура предыдущего периода, Сем. Щедрин, продолжает повторять прежние образцы условно-декоративного паркового ландшафта; два новых пейзажиста Ф. М. Матвеев (1758—1826) и А. Е. Мартынов (1768—1826) перелагают на итало-немецкий лад: один — виды Италии, другой – виды русских местностей. Единственной подлинно-заметной, фигурой русского пейзажа на закате XVIII века является упоминавшийся выше Ф. Я. Алексеев, давший отличные по живописности и перспективе, сделанные в духе Белотто, воздушно-серебристые виды Петербурга — «Дворцовая набережная», 1790, и ее дальнейшие отголоски — «Биржа», 1810, и «Адмиралтейство», 1817; позднейшие же его виды Москвы (в частности Кремля), Николаева и др. обладают скорее документальной ценностью, нежели художественной, и архитектурно-бытовая сторона в них много интереснее живописной. Тем самым подавляющее значение Боровиковского в живописи 1790-х годов обозначается явно. Выходец из обедневшей дворянкой семьи, он нашел для себя защиту от давления действительности в мистике, в исповедании внутреннего совершенствования, в сугубом «сентиментализме». Будущий член мистического кружка Татариновой, ее истовый адепт, он всей своей живописью служит идеализации действительности, утверждению благостности человеческой породы вообще и своих современников — в частности. Можно сказать, что все портреты Боровиковского на одно лицо, как ни многообразно различие их физических примет. Это — одна братская семья ревнителей блага на земле. Такие люди неспособны быть деспотическими правителями, жестокими помещиками, паразитами народного труда. Боровиковский искренен, искусство для него — выполнение внутреннего долга, а не поденщина; но он видит не то, что есть, а то, что должно быть, дабы спасти привычную и милую жизнь от потрясений и взрывов. Народолюбивое дворянство, всепопечительное правительство, объединенные в добре, не враждующие общественные слои — вот о чем повествует Боровиковский. Тем резче проступает несоответствие между мастерством его кисти и действительными обликами тех, кого он отражает: монументальный «Павел I» во всех регалиях (1800) — правящий мечтатель; залитый бриллиантами многопоместный «Куракин», позирующий во весь рост (1799), — тоже идиллическая душа, такая же, как и проникновенно-тихие цесаревны и фрейлины, барыни и барышни, — «Александра Павловна», «М. Лопухина» (1797), «Е. Нарышкина» (1799), «Е. Гагарина» (1801) и т. д., и их мужские соответствия — царедворцы, генералы, помещики. Чтобы выразить это, Боровиковский создает однообразную, но единственную по совершенству гармонию красок, превращающую тщеславную мишуру нарядов в своего рода «покров души», в ангельское одеяние, как нельзя более соответствующее тем духам во плоти, которых оно облекает. Подобное искусство требует большой выдержки кисти, высокого равновесия колеров; ослабление его должно резко обнажить искусственность системы Боровиковского. Это и произошло у него в позднейшие, 1800-е годы, когда наполеоновская эпоха, потребовавшая такой энергии и от русского общества, влила известную мужественность даже в Боровиковского: его портреты стали более характеристичны, живописная манера сделалась жестковатой и даже цветистой, мягкость очертаний фигур стала подчеркнуто-линейной. Но вместе с тем Боровиковский теряет свою единственность, — становится в общий ряд и даже позади более сильных мастеров, будь то заезжая Виже-Лебрен (см.) или отечественный Кипренский (см. ниже).

П. А. Федотов. Разборчивая невеста (Государственная Третьяковская галерея Москва).
Боровиковский не оставил школы, да и сам заимствовал немного и при случае: в основном он сам себя сделал и в себе замкнулся. У него оказался лишь один не столько прямой ученик, сколько прямой подражатель, В. Истомин. Детальные, и младшие, и начинающие современники, были учениками Левицкого и явились антагонистами всего строя портретописи Боровиковского: таков С. С. Щукин (1754—1828; см.), выступивший в конце 1790-х годов с необычным поколенным портретом «Павла I с тростью» (1797), в котором потрясающе передана сумасбродная энергия хаотического правителя; таков даже академический лирик А. Г. Варнек (1782—1843; см.), сугубо таков Статин, пока автор единственного портрета «Неизвестного» (1794), изумительного и своей из ряда выходящей острой характерностью, и чисто давидовским, нерусским строем портретописи — словно бы свидетельствующим о парижско-революционном житье и ученичестве Статина. Заимствования же самого Боровиковского ограничились немногим, — переработкой отдельных черт, взятых у приезжих иностранцев в начале 1790-х годов; обычно указывают на австро-немца И. Лампи-отца (1751—1830; см.) и на М. Л. Виже-Лебрен (1755—1842; см.), к ним надо присоединить еще Ш. Л. Вуаля (см.). Эти три имени занимают видное место среди обширной колонии иностранных художников, собравшихся в России в последнее десятилетие XVIII века. Из них следует упомянуть еще французов: Ж. Монье (1746—1808) и Ф. Дуайена (1726—1806), а также итальянцев: замечательного театрального декоратора П. Гонзага (ум. 1831; см.) и портретиста С. Тончи (1756—1844; см.), автора монументальных портретов «Державин в шубе» и «Павел I в рост» (1798).
В скульптуре вступают в строй и творят в полную силу Прокофьев и Козловский, для которых 1790-е годы — основная пора; в значительной мере кристаллизуют свое направление и дарование также Федос Щедрин и Мартос. Две черты характерны для русской скульптуры этого периода: во-первых, исчезновение портретного жанра, во-вторых, — неустойчивая пестрота тенденций. После Шубина портрет в скульптуре исчез на три с лишком десятилетия, до середины 1820-х годов; тем самым из русской скульптуры выпал человек, т. е. первоисточник жизненности искусства. Если бы это было заменено идейно-стилистической твердостью нового направления, живая содержательность новизны могла бы возместить убыль непосредственной «человечности» в скульптуре. Но именно этого-то в ней и не было, в противоположность тому, что отличало французский неоклассицизм 1780—1790-х гг. и что было внесено в него идеями французской революции. У основных двух ваятелей конца столетия, у Прокофьева и Козловского, не только нет выдержанности и роста новизны, но едва ли можно во всей истории русской скульптуры найти другие примеры такой противоречивости творчества, — особенно у И. П. Прокофьева (1758—1828; см.); мастер первоклассных способностей и отличной выучки, он не просто противоречив, а весь растерзан метаньями; новый стиль у него оказывается зажатым между двумя отрезками старого стиля: неоклассика его лепных украшений Павловского дворца и особенно его барельефов на парадной лестнице Академии Художеств (1786) фланкируется вначале умеренной барочностью «Морфея» (1782) и «Актеона» (1784), а в конце — сугубой барочностью «Борцов» (1816) и «Торжества Нептуна» (1817); это даже не запаздывание, а атавизм. Противоречивость у М. И. Козловского (1753—1802; см.) иной породы; по дарованию, по художественной выразительности — это огромный мастер, едва ли не равный Шубину, но в нем живут два художника, работающие рядом, и не посменно, как у Прокофьева, а параллельно и непрерывно. С начала и до конца рядом тянутся у него две линии: старая екатерининская барочность и новейший французский классицизм; при этом барочная струя у Козловского неизменно оставалась ярче, чем классицистическая, ибо барочная сюита «Поликрат» (1790), «Геркулес на коне» (1799), «Самсон» (1801) могущественнее и прекраснее, чем неоклассика «Спящего амура» (1792), «Амура, вынимающего стрелу» (1792), «Гименея» (1797), «Пастушка» (1800) и т. п., очень изысканных и плавных, но излишне изящных и недостаточно строгих; только в предсмертном замечательном памятнике Суворову (1801), изображенному по-давидовски, античным героем патриотизма и гражданственности (начатки того же есть в более слабом проекте памятника Я. Долгорукову, 1796), Козловский выравнивает свой классицизм. Таким образом, и этот лучший скульптор 1790-х годов является сугубо переходной фигурой.
Б) XIX — начало XX века. Начало XIX в., александровская пора, кажется художественно бедным в сравнении с заключительным двадцатилетием века минувшего. Состояние александровского искусства и прямыми и побочными проявлениями свидетельствует о своем решительном несоответствии огромным потрясениям русской жизни этого времени. Сдвиги и противоречия во внешних и внутренних делах были отражены русским художественным словом и не были отражены русским изобразительным искусством. В противоположность литературе, ставшей самостоятельной общественной силой и уже умевшей к 1815—25 гг. противополагать себя правительственной реакции, искусство оставалось зависимым, шло на поводу, поднималось, когда его тянули сверху, и падало, когда им пренебрегали. Лучшее, что оно дало, приходится на первое десятилетие, на 1800—1810-е гг., причем знаменательно, что делами искусства впервые занялась русская литература. Это — время нарождения русской художественной критики, пора появления писаний об искусстве, поминаний и оценок отечественных художников в прессе и книгах. От искусства потребовали гражданского служения, выполнения общественного долга. Не даром писали о нем не только «эпикуреец» Батюшков, но и такие люди, как А. И. Тургенев, как радищевцы Писарев, Попугаев, Бобров, настойчиво требовавшие, чтобы художники занялись народно-историческими темами, «славой русского народа», и сменили, как образно выразился А. И. Тургенев, «героическую Спартанку, радующуюся, что ее сын убит за отечество,... Марфой посадницей, которая не хочет пережить вольности новгородской».
В художественной политике правительства отмечаются другие черты: во-первых — усилия официально внедрить в русского искусства отечественную, патриотическую тематику; однако результаты этого были в живописи не более значительны, чем в предыдущую екатерининско-павловскую эпоху, и власть отдавала себе в том отчет: в связи с этим характерна вторая черта в отношении правительства к искусству — выдвижение скульпторов и умаление живописцев, поскольку «историческое ваяние» в лице Гордеева, Козловского и Мартоса успешно выполняло то, чего не выполняла живопись; третьей чертой является возобновление, после почти пятнадцатилетнего перерыва, командировок русских художников за рубеж; и, по контрасту с этим, четвертая черта — отказ от вызовов иностранных мастеров, за единичными исключениями, для специальных заданий. Так, в 1814 г. был вызван для рисования русских войсковых форм и батальных сюжетов немец А. Зауервейд, а в 1819 г. для изготовления портретов генералов, участников отечественной войны, — англичанин Дж. Дау, выписавший себе в помощь, ибо заказ был огромен, своего зятя, рисовальщика и гравера, Т. Райта (1792—1849). Но Зауервейд развернулся, главным образом, позднее, в николаевское время (см. ниже). Наоборот, Дж. Дау (1785—1829; см.) на целые десять лет, с 1819 по 1828 г., целиком погрузился в изготовление «Галереи двенадцатого года», проявив и все достоинства, и все недостатки своего искусства: с одной стороны, художественную неутомимость, выдающийся техницизм, свободную широту кисти, не слабеющий пафос композиции, с другой — пристрастие к декоративным нарядностям, однообразие эффектов, поверхностность характеристик.
Настоящее западное воздействие на наше искусство в первой четверти XIX века шло через заграничное «пенсионерство». Но и оно изменилось сравнительно с предыдущими этапами. Оно сузилось. За редчайшими исключениями, вроде парижской поездки гравера Н. Уткина, просидевшего в Париже учеником и военнопленным свыше десятилетия, основное направление молодежи решением правительства было дано в Италию, в Рим: туда был послан весь поток академических, высочайших и меценатских пенсионеров, основная цепь будущих знаменитостей—живописцев и скульпторов. Если в предыдущую эпоху итальянское искусство давало только поправку к основному французскому влиянию, теперь Италия стала плацдармом, откуда шло наступление застойного академизма, реакционной эстетики на живое развитие передового искусства, совершавшееся в наполеоновской и посленаполеоновской Франции. Это «пенсионерство» в Италии имело важнейшие последствия и для александровского и еще более — для николаевского искусства.
В 1800-х годах налицо три слоя мастеров во всех видах русского искусства, кроме гравюры. Первый слой — старики, доживающие, но еще не слагающие рук, основные екатерининские мастера: Левицкий, Боровиковский, Гордеев, Ф. Щедрин, Мартос и др. Второй слой — художники, выступившие с первыми вещами на самом исходе XVIII в., в павловскую пору, выучениками екатерининских мастеров и екатерининского «пенсионерства», однако выступившие лишь с выпускными академическими «программами» или только с первыми опытами самостоятельного творчества; главная же их пора — 1800-е годы; таких переходных художников немного: в живописи, кроме С. Щукина (см. выше), написавшего в 1800-е годы ряд выразительных портретов, портретист Н. И. Аргунов (1771—1829; см.) и исторический живописец Андр. И. Иванов (1775—1848; см.); в скульптуре — П. П. Соколов (1764—1835); в гравюре — малозначительный К. В. Ческий-старший (1776—1813; см.). Наконец, третий слой — молодые мастера, первенцы русского искусства XIX века, его исходные точки: в живописи — Кипренский, Варнек, Богаевский-Благодарный, Егоров, Шебуед, в известном смысле — А. Орловский; в скульптуре — В. Демут-Малиновский, С. Пименов; в гравюре — Уткин, Ухтомский, Галактионов, Ив. Ческий.
Общественно-политическое внешнее и внутреннее положение в трудную пору между Аустерлицем и Отечественной войной вызывало ожидания талантливых «исторических» композиций на гражданственно-патриотические сюжеты; в действительности же продолжалась старая, екатерининская гегемония портретного искусства, и не только в ранние 1800-е годы, но и после 1807 г., когда из Рима вернулись молодые корифеи исторической живописи Егоров и Шебуев. За десятилетие 1801—1811 гг. только две «программы» более или менее отвечали ожиданиям современников: «Дмитрий Донской» Кипренского (1805) и «Марфа Посадница» Дм. Иванова (1808). Ноу Кипренского продолжения не последовало, ибо он выбыл в портретисты, а Дм. Иванов (1782—1820) выбыл в изготовитёли копий и рисовальщики. Младо-французская линия в русском живописно-историческом классицизме, таким образом, оборвалась, не развившись. Возвращение Егорова и Шебуева принесло и утвердило монополию академического итальянизма, и сюжетного и формального, — с композициями на «вечные», религиозно-исторические темы и на «вечные», установленные классиками, формы живописи: неискушенным соотечественникам была лестна эта трансплантация высокого искусства Чинквеченто и Сеиченто на русскую почву, они с почтением глядели на «Рафаэля» в А. Е. Егорове (1776—1851; см.) и на «Пуссена» в В. К. Шебуеве (1777—1855; см.), но в исторической перспективе все это обернулось преимущественно эпигонством, губительным отрывом от живых стремлений русской действительности, — тем горшим, что силы у обоих художников были незаурядные; жизнь того и другого мастера в потомстве обеспечена не живописью, а блестящими рисунками и эскизами. Да и судьбу крупнейшего живописца эпохи, Кипренского, надо в значительной мере рассматривать в связи с неудачами «исторической» живописи.
О. А. Кипренский (1783—1836; см.) отнюдь не готовился быть портретистом; он был смещен сюда жизненными обстоятельствами, необходимостью заработка, застрял здесь и оказался решающей величиной. Но примириться с этим он до конца жизни так и не мог; он хотел быть победителем в первенствующем «историческом» жанре, упорно, но неудачно искал решающей темы. Зато этот неудачник «высокого искусства» стал тем, чем не стал ни один из его сверстников: Кипренский вошел в русскую плеяду великих портретистов. То, что не удалось ему в исторической живописи, удалось в портретописи. Мучивший его пафос истории, ощущение огромных потрясений времени и героики личности в борьбе государств и наций передавались им щедро и легко сквозь живой человеческий образ. Тут — корень его портретного «романтизма», делавшего его достойным современником самых передовых художников западного искусства 1800-х годов. Этот ранний Кипренский — лучший; его мастерство не просто человечно, но вдохновенно, — и именно такой вдохновенностью оно оскудеет дальше, а возросший опыт не сможет заменить ее утраты. Этим создается решающая дистанция между ранним Кипренским и С. Щукиным, который портретным ремеслом не ниже его, и особенно между ним и младшими сверстниками, Богаевским-Благодарным и Варнеком, хорошо обученными и способными, но ограниченными: у И. С. Богаевского-Благодарного (1783—1859; см.) — идейного ученика Боровиковского, есть в немногочисленных его портретах теплота запоздалого, но искреннего сентиментализма, выраженная столь же запоздалыми, но добротными приемами школы Боровиковского; зато А. Г. Варнек (1782—1843; см.), жадный, честолюбивый, вечный местник в Академии и стяжатель заказов в обществе, стремится только угодить среднему светскому вкусу, и его портреты, приятные по технике, до крайности бессодержательны. Поэтому ближе всего к Кипренскому — пришлый человек, полуавантюрист, полуэнтузиаст, обрусевший поляк, засевший в Петербурге с 1802 г., художник французской выучки и русского творчества, А. О. Орловский (1777—1832; см.), мастер на все руки, — живописец, рисовальщик, литограф, карикатурист, — писавший горячей кистью казаков, башкир и турок в духе Фр. Казановы и Сальватора Розы, терзавший вдохновенными карикатурами облики современников, со смешливым жаром зарисовывавший русский быт, уличные типы и сценки и делавший это тем увлеченнее и точнее, чем чудаковатее они ему казались; эти жанровые рисунки и литографии — самое ценное в его беспорядочном наследии: они образуют подлинно историческое звено, связующее елисаветинского Лепренса и его екатерининских продолжателей с нарождающимся большим русским «бытовизмом» в живописи и рисунке.
Иное положение сложилось в александровской скульптуре; взаимоотношение учителей и учеников было противоположным живописи: старики не уступили молодым руководящего и определяющего положения не только в первую, но и во вторую половину 1800—1825-х гг. Скульптура определялась в 1800—1815 гг. с одной стороны — двумя стариками: Ф. Щедриным и Мартосом, с другой — двумя молодыми: В. Демут-Малиновским и С. Пименовым. Но значение старшей пары было подавляющим, особенно Мартоса. Ф. Ф. Щедрин (1751—1825; см.) был медлителен и неплодовит, и созревание его второй манеры завершилось в 1812 г. созданием «Кариатид, несущих небесную сферу» для ворот Адмиралтейства; это — настоящее событие в русском скульптурном классицизме, в формальном становлении стиля. Иное дело — И. П. Мартос (1754—1835; см.): он собственно лишь в 1800-е годы развернулся в полную меру, так что стал александровским ваятелем по преимуществу, с той важной особенностью, что и официальные, и общественные круги видели в нем своего художника в ту пору, когда еще было единство между ними, и что он столь же успешно остался правительственным скульптором в годы аракчеевщины; такова была эволюция его классицизма, от героико-патриотического к апологетико-казенному; в эти финальные годы, не теряя житейского благополучия, Мартос потерял и в художественности, и во влиянии; в 1800-е же годы он — центральное явление русского искусства, ибо только его памятник «Минину и Пожарскому», привлекавший в процессе работы, с 1804 по 1818 г., пристальное общественное внимание, удовлетворил гражданские чувства современников, среди неудачных или неполноценных аналогичных опытов живописцев и скульпторов; вместе с тем, никто в эту пору так, как Мартос, не увековечивал отдельной человеческой судьбы в сдержанно-скорбных, классико-элегических надгробиях — Е. Гагариной (1803), Чичаговой (1811) и т. п. В сравнении с ним, оба молодых скульптора, Демут и Пименов, слабее и менее значимы; С. С. Пименов (1784—1833; см.) — тоньше в приемах, шире в диапазоне, но и безличнее, зависимее в общем облике своего классицизма: он всегда кого-то перепевает то артистично, как в прелестном проекте памятника Козловскому (1802), то с натугой, как в статуе «Геркулес, задушающий Антея» (1808), между тем, как более грубый и однообразный В. И. Демут-Малиновский (1779—1846; см.), так и не отполировавший, несмотря на итальянское «пенсионерство», своего искусства, внес особый оттенок в скульптуру 1810-х годов: Демут первый придал отчетливую русскую жанровость академической скульптуре, — он создал то соединение русской бытовщины образа с космополитической отвлеченностью композиции, которое потом повторят Пименов-младший, Логановский и др. В дальнейшем Демут, под стать Мартосу, придал этому соединению казенный вид в памятнике «Сусанину» (1843), выполненном духе «самодержавия, православия и народности». Не таков был молодой Демут, в лучшей его вещи, — в статуе «Русский Сцевола» (1813): академический атлет, с лицом русского крестьянина и русским топором и руке, заносит его над левой кистью, — аллегория народного самопожертвования в Отечественную войну.
Это, в самом деле, наиболее выдающийся из современных откликов на события 1812 года. Великое напряжение и пафос борьбы с наполеоновским нашествием не нашли себе в искусстве более достойного и немедленного художественного отражения. Осуществление мартосовского «Минина и Пожарского» двигалось неторопливо, шло уже восемь лет, и запоздало еще на пятилетие, а остальное было в проекте, как, например, у Шебуева, либо было незначительным; в итоге дело свелось к академической программе молодого М. Воробьева: «Молебствие русских войск в Париже в 1814 г.», и к самоуничижительной картине военнопленного А. Дезарно: «Русский кавалерист преследует французского карабинера» (1813); если прибавить позднейшую серию восковых аллегорических барельефов Ф. Толстого, выполненную в подавляющем большинстве в 1819—1833 годах, и незначительное полотно И. Лучанинова «Благословение ополченца 1812 года», то скромнейшая доля живописи и скульптуры в современном отображении великих событий 1812—1815 годов будет исчерпана. Главная роль тут выпала не на долю высокого искусства, а на лубок, на народную картинку, на портретную гравюру. Уже граверная фабрика П. Бекетова, успешно распространявшая с 1807 г: портретные лубки, сделанные во множестве руками бекетовских крепостных, свидетельствовала о массовой тяге к простому и доходчивому искусству. В обстоятельствах 1812 года эта тяга была использована. Правительственная агитация — с одной стороны, самовыражение народных чувств — с другой, вызвали к жизни и иллюстрированные афишки Ростопчина, и карикатурные листы Теребенева, М. Иванова, Венецианова, и «парсунные» портреты народных героев Двенадцатого года, сделанные безымянными низовыми художниками. Ростопчинские изделия выполнялись руками настоящих лубочников, в отличие от псевдонародного текста самого генерал-губернатора; И. И. Теребенев (1780—1815; см.) с товарищами тоже так перерабатывали английские антинаполеоновские композиции Джильрея и др., которыми пользовались для копировок и подражаний, что народная масса, городская и крестьянская, приняла теребеневско-ивановские изделия как свои коренные; портреты же «Василисы Кожиной», «Герасима Курина» (Исторический музей) и т. п. всей техникой и композицией свидетельствуют об эстетике крепостных или народных художников. Профессиональная гравюра добавила ко всему этому крайне мало; уже доля М. Иванова в теребеневской серии была очень невелика, а к ней надо прибавить только несколько портретов военачальников и партизан Отечественной войны, награвированных Н. Плаховым, И. Ческим (см.) и др. Молодая александровская плеяда граверов (см. XVI, 363/64, прил., 7/8) — С. Ф. Галактионов (1779—1854), И. В. Ческий (1777—1848), А. Г. Ухтомский (1770—1852) и др. — в самом деле, оказалась еще более академичной, чем ее сверстники в «знатнейших художествах»; она была занята обыденно мирной работой — книжно-иллюстраторской, ландшафтной, портретно-репродукционной. Исключением является только Н. И. Уткин (1780—1863; см.), единственный блестящий талант среди своих сверстников и единственный «классико-романтик» среди отечественных классицистов и сентименталистов резца. Он и второй такой же мастер «малого искусства», — рисовальщик и медальер Ф. П. Толстой (1783—1873; см.), собственно представительствуют за все русского искусства в 1815—1820 г. В Академии Художеств в годы 1811 —1817, после смерти Строганова и до назначения Оленина, не было даже президента, т. е. правительственного ока вообще, и редко когда в ней царило такое запустение, как в эти годы. Появление в Академии А. Н. Оленина (см. XXIII, 656/57), правившего ею с 1817 г. по 1843 г., было началом очистки авгиевых конюшен и упорядочения обучения. Оленин взялся за исправления, достал денег, удалил неспособных учащихся, перераспределил оставшихся по специальностям, подтянул учителей, уничтожил пережившую себя дробность классов, ввел снова периодические выставки, организовал в Эрмитаже зал «русского искусства», возобновил заграничное пенсионерство и т. п.; вместе с тем, возобновил старую социально-политическую меру — запрет приема крепостных в обучение до получения вольной, поскольку в 1800—1817 гг. помещики под видом сторонних учеников пристраивали в Академию своих крепостных, и те получали аттестаты и даже золотые медали, т. е. «личное дворянство», а затем должны были возвратиться в рабское состояние. Эти оленинские мероприятия сказались на искусстве, главным образом, лишь в ранне-николаевское время, когда вышло на сцену очередное поколение, — конец же александровской поры держится на нескольких художниках, уберегших в себе, среди ширящейся казенщины искусства, своеобразие задач и свежесть творчества. Таких очень немного: 1810-е годы в скульптуре — это Ф. Толстой, в живописи — ранняя пора Тропинина, Венецианова, М. Воробьева, Кипренского; и лишь на начало 1820-х годов приходятся первые выступления пенсионерствующей молодежи: Сильв. Щедрина, К. Брюллова, Басина, Гальберга, Крылова, Б. Орловского. О. Кипренский проводит в Италии семь лет (1816—1823), и это создает решительный надлом в его горячем и живом романтизме: он борется за возможность стать «историческим живописцем», готовит композиции «Гробница Анакреона» и «Аполлон, разящий Пифона», но удачи не обретает; более того, в его портреты проникает «картинное начало», — эффектность построения и приглаженность техники, лишь изредка оправданные («Портрет А. Голицына», 1819), а обычно ослабляющие его искусство. На эти годы падают и первые работы В. Тропинина, который ведет трудное личное существование крепостного и живописует для барина иконы и подневольные портреты, а собственные вкусы проявляет в первых опытах передачи украинских народных типов. Почти столь же малозаметен еще и А. Венецианов. Наиболее на виду оказалось выступление художника иной специальности, молодого пейзажиста М. Н. Воробьева (1787—1855; см.), сменившего, в нещедром развитии русского пейзажа, Ф. Алексеева: пейзажный романтизм его картин и рисунков, наметившийся в видах Москвы 1817—1818 гг. и оформившийся в палестинской серии его путешествия в 1820 г., достиг наиболее яркого выражения в ранне-николаевскую пору, в изображениях русско-турецкой войны 1828—1829 гг. и особенно в петербургских видах 1830-х годов, но никогда не избыл искусственности и академического эффектничания, сближающего Воробьева не столько с молодым Кипренским, сколько с молодым Брюлловым.
Николаевская пора в целом — пора кризиса русского искусства. Бытовая и интерьерная живопись Венецианова и его учеников, брюлловская «Помпея» в середине 1830-х гг., жанровые композиции Федотова, «Явление Христа» Александра Иванова в конце 1850-х гг., — вот то, что выдается над мертвым морем казенного академизма, над общей художественной застойностью николаевского тридцатилетия, особенно ощутительной при сопоставлении искусства с литературой этих лет. Ряд обстоятельств способствовал низкому уровню русского искусства николаевского времени: ничтожное идейное и формальное наследство поздне-александровской поры; отсутствие общественной опоры у искусства; сознательно проводимое сверху разобщение русского искусства с передовым западным и прежде всего с французским искусством как следствие ненависти Николая I к революциям 1830 и 1848 гг.; бесплодное итальянское «пенсионерство», сводившееся преимущественно к копированию старых мастеров; наконец, назойливое личное вмешательство самого императора в жизнь русского искусства. В эту гнетущую атмосферу не внесли ничего освежающего и западные художники, вызванные Николаем или раздобывшие придворные заказы; выполнив их, они исчезали с горизонта, не соприкоснувшись с русскими художниками; таковы: француз О. Верне (см.), немец Ф. Крюгер (см.), англичанка Х. Робертсон. Еще менее могли наложить свою печать на русскую живопись несколько второстепенных иностранцев николаевских времен, зачастую растворявшихся в ней, как француз А. Ладюрнер (1789—1855), немец А. Зауервейд (см.) и другие.
Особого внимания заслуживает одна черта в общественном положении русского искусства. Если до 1825 г. история русского искусства и история Академии Художеств сливаются, то с николаевской поры они начинают постепенно противостоять друг другу — и по жизненной значимости, и по художественной ценности. В 1820—1850-е годы происходит перемещение центра тяжести, медленное, нерешительное, но при всем том настолько неуклонное, что в 50-х и 60-х гг. русского искусства не только будет уже внеакадемическим, но и объявит войну Академии и победит в этой войне. В области искусства николаевский режим потерпит тот же крах, что и в других областях. Вместе с тем в николаевское время сходит на нет и живое соревнование между традиционным академизмом, расцветающим романтизмом и нарождающимся реализмом. Доминирующим становится официально покровительствуемый академизм, хиреет романтизм и подспудно живет реализм.
В течение 1825—35 гг. еще существует разнообразие форм и тенденций. А. Орловский, Кипренский, Сильвестр Щедрин, М. Воробьев, М. Лебедев образуют группу романтиков; Венецианов и его школа, Тропинин, П. Ф. Соколов, братья Чернецовы входят в численно большую группу реалистов; Шебуев, Егоров, Басин, Бруни, Брюллов, Зауервейд, Ладюрнер, Гальберг, Б. Орловский, Крылов, Н. Пименов, А. Логановский, Ант. Иванов и др. составляют обширную плеяду академистов всех разновидностей. Расслоение и исчезновение романтиков к двадцатым годам уже налицо: раннениколаевское время только убыстряет этот процесс; у реалистов, наоборот, это — пора первого созревания. Основной мастер александровского романтизма О. А. Кипренский (см.) именно теперь завершает свой переход в академический лагерь, платя за это окончательным упадком дарования. Его удачи приходятся на короткую пору возвращения в Россию (1823—1828) между двумя итальянскими пребываниями: таков знаменитый портрет Пушкина (1827), портрет Гнедича (1826—28), карандашный портрет Комаровского (1826—27) и др. Последние же девять лет (1828—36) наполнены упорными и горькими в своей неудаче опытами академизма разных видов: в обеих «Сивиллах», «Цыганке», «Лаццарони», «Девочке с виноградом», «Читателях газет» видна упадочная и порой даже какая-то отчаявшаяся кисть. Параллельный путь, сознательно и благополучно приспособляясь к господствующему вкусу, проделал М. Н. Воробьев в пейзаже; романтическая приподнятость его ранних александровских композиций (см. выше) достигла в начальную николаевскую пору наиболее выразительных эффектов: в «Приморском виде» (1832), в «Дворцовой набережной» (1830-е годы), в обеих «Петербургских ночах» («Сфинксы у Академии Художеств», 1835, и «Вид на Неву с Троицкого моста», 1839) исчезла, та доля непосредственности, какая еще была в его пейзажах 1820-х годов, но зато увеличилась обдуманная и расчетливая игра светом, сумерками и т. д., которая приведет его в сороковых годах к пейзажному академизму на умеренно-романтической основе. Наиболее чистым и высоким сохранился романтизм у Сильвестра Щедрина и М. Лебедева. С. Ф. Щедрин (1791—1830; см.) — едва ли не самый большой русский пейзажист вообще, и во всяком случае самый европейский: он опередил новым содержанием и формами своего искусства французских барбизонцев; его по праву можно назвать первым романтиком — в римской серии видов («Колизей, 1822; «Тиволи», 1822—1823; «Новый Рим», 1825, и др.) и первым реалистом мировой пейзажной живописи — в неаполитанской серии с ее замечательными «Соррентскими гаванями» (1825—30), «Террасами» (1825—1828) и т. п.; он гениально предваряет то, что принесет вслед за ним в европейскую живопись молодой Коро. Разновидность этого пейзажного романтизма представило гибкое и блестящее дарование М. И. Лебедева (1811—1837; см.), сочетавшего романтическую энергию, какой нет у сдержанного Щедрина, с пристальной реалистической зоркостью, — таковы виды: «Ариччиа» (1835 и 1836), «Кастель Гандольфо» (1836), «Альбано» (1836 и 1837) и т. п.
Для реалистической группы поворотным видом искусства была жанровая живопись, второе место занимал в ней портрет и только третье — пейзаж. Русская природа была открыта и отражена позднее, и притом очень скромными художниками — ее отражения стали самодовлеющими у братьев Чернецовых (см.) в 1830-х годах; оба они, Г. Г. Чернецов (1801—1865) и Н. Г. Чернецов (1804—1879), начинали «перспективистами» («Парад на Марсовом поле» Г. Чернецова, 1832), но их путешествия — в 1830 г. по Кавказу и в 1838 г. по Волге — стали для русского искусства первым широко распахнутым окном на облик родной страны; однако принципиальный интерес их опытов крупнее художественного. Много значительнее идейно и много художественнее «отец русского жанра» — А. Г. Венецианов (1780—1847; см.). Скромный портретист в александровскую пору, он стал в середине 1820-х годов подлинной величиной, наиболее новым и важным явлением русского искусства. Лично и политически он был как нельзя более далек от декабризма; но серия его крестьянских холстов, созданная в канун и после декабрьского восстания («Гумно», 1820—24; «Чистка свеклы», 1823; «Утро помещицы», 1824; крестьянские типы, 1825; «На пашне» и «На жатве», конец 1820-х — начало 1830-х гг.), своевременностью своего появления, своей художественной выразительностью и тем, что в ней вычитывали разные слои зрителей, попадала в центр идейных интересов общества. Одни его полотна давали великолепные по правдивости и характерности типы крестьян, сделанные подлинно живописной кистью; другие представляли собой жанровые сцены крестьянского труда и быта, хотя и идиллически окрашенные и условно обобщенные. У позднего Венецианова 1840-х гг. это перешло в смесь характерности типов с декоративностью композиции («Кормилица», «Туалет», «Купцы Образцовы»). Значение венециановского направления было тем важнее, что он создал вокруг себя целую школу: в его именьице «Сафронково» и в Петербурге собралось свыше шести десятков молодых живописцев, отысканных Венециановым в народной толще и обученных им. Эти ученики — К. А. Зеленцов (1790—1845), Г. Крылов (1805—1850), Л. С. Плахов (1811—1881), И. С. Щедровский (ум. 1870; см.), А. В. Тиранов (1808—1859; см.),Е. Ф. Крендовский (1800 - после 1856), С. К. Зарянко (1818—1870; см.) и др. — расширили и заострили искусство Венецианова в обоих направлениях — народно-бытовой живописи, с одной стороны, и «интерьерной», «жизни в комнате» — с другой.
Между школой Венецианова и ранними передвижниками николаевская эпоха проложила не только разрыв во времени, но и разрыв в существе. До известной степени связью между ними является крупнейший из мастеров реалистической группы, В. А. Тропинин (1776—1856; см.). С первых же шагов своего развития, задержанного долгим пребыванием в крепостном состоянии, он сочетал две линии — портретную и жанровую; эта последняя проявилась наиболее зрело и выразительно как раз в те же 1820-е годы, что и у Венецианова («Кружевница», 1823; «Старик-нищий», 1823; «Гитарист», 1823), но у Тропинина внимание передвинуто с крестьянства на мелкий городской люд, а венециановская взволнованность заменена благодушно-сентиментальным анекдотизмом; к тому же жанровая группа занимает у Тропинина подсобное место,— основным видом его искусства является портрет; в те же 1820—1830-е годы, в портретах Булаховича (1823), в знаменитом портрете Пушкина в халате (1827), в портрете Зубовой (1834) свободно и законченно выразил себя особый тропининский стиль — своего рода «романтико-реализм», богатый экспрессивностью характеристик и широтой живописных приемов.
Третья, академическая, группа проявляет уже с самого начала николаевского времени все признаки своей разрастающейся гегемонии: она переманивает к себе молодежь из других течений, она приобретает своему стилю принудительность государственной санкции, наконец, она наиболее обширна по численности художников и наиболее многообразна по родам искусства, ибо не только скудная николаевская гравюра, — сводящаяся, в сущности, к одному Ф. И. Иордану (1800—1883; см. XXII, 664/65), почтеннейшему технику и скучнейшему академисту, — связана с ней, но и целиком вся скульптура. До самых 1860-х гг. николаевские скульпторы изготовляют только памятники, надгробия, аллегорические барельефы и фронтонные группы, мифологические статуи и т. п. Этим заняты и поздние классицисты, и ранние академисты. Среди первых: Б. И. Орловский (1793—1838; см.), русское переложение Кановы, хотя и ученик Торвальдсена, увлеченно повторявший заимствованные формы; только один раз, в сильной группе «Яна Усмаря, укрощающего быка» (1831), зазвучала у Орловского необычная и собственная нота, но осталась исключением; далее — И. П. Витали (1794—1855; см.), наоборот, итальянец по крови, но русский классицист по стилю, художник декоративной скульптуры по преимуществу, автор фонтанов Театральной и Лубянской площадей в Москве (1835), и др.; наиболее значителен С. Н. Гальберг (1787—1839; см.) — продолжатель Мартоса, единственный прямой наследник его лучшей поры и в то же время единственный в ряду непортретирующих скульпторов мастер портретного бюста. Рядом с последними классицистами стоят первенцы николаевского скульптурного академизма: старший из них — М. Г. Крылов (1786—1850; см.), автор «Бойца» (1837), далее А. В. Логановский (1812—1855), автор «Игры в свайку» (1836), Ант. А. Иванов (1815—1848; см.), сделавший аналогичную «Игру в городки» (1839), и их общий вдохновитель, создавший им образец своей «Игрой в бабки» (1836), — Н. С. Пименов-младший (1812—1864; см.), наделенный немалыми силами от природы, но растративший свое дарование на сложно-пышные, до изумительности убогие, лжемонументальные скульптуры для мостов, церквей и т. п. Позднениколаевские скульпторы 1840—1850-х гг. посредственностью дарования равняются по худшим из старших и остаются в том же узко-академическом кругу и с тем же традиционно-академическим стилем исполнения; таковы: Н. А. Рамазанов (1815—1867; см.), П. А. Ставассвр (1816—1850; см.) и др. Единственный скульптор, который не делит общей участи сверстников, это — П. К. Клодт (1805—1867; см.), мало самостоятельный, но очень чуткий к веяниям времени, художник академического стиля в общем абрисе композиций и реалистической трактовки — в составных элементах, Особенно в изображениях лошадей («Укротители коней», 1839, на Аничковом мосту; конный памятник Николаю I, 1856—1859, и т. п.).

В. Г. Перов. Сельский крестный ход (Государственная Третьяковская галерея, Москва).

И. Е. Репин. Иван Грозный и сын его Иван (Государственная Третьяковская галерея, Москва).
Центральным явлением в искусстве академической группы в течение всего николаевского времени оставалась историческая живопись. Вернувшаяся из-за границы молодежь, «пенсионеры», обновляла ее прививкой новых начал, то заимствованных, как брюлловский романтизм или бруниевское «назарейство» (см. XIV, 337/38), то самобытных, как ивановский реализм. К. П. Брюллов (1794—1852; см.), с одной стороны, — живописец исключительных сил, один из самых одаренных художников, каких знало русское искусство, любимец и баловень соотечественников; с другой — жертва промежуточности своего творчества, потерпевший фиаско в самом большом деле, какое взял на себя, и, наоборот, ставший решающим мастером в областях, которые считал побочными. Это произошло потому, что огромная техническая виртуозность, способность к живописи больших масштабов была у него ограничена компромиссностью художественного мировоззрения: он не преодолевал академизма, а только вносил в него поправки, беря их у романтизма; этого было достаточно, чтобы придать «Последнему дню Помпеи» необычный блеск, но мало для того, чтобы сделать «Помпею» рубежом в развитии русской, а тем более европейской исторической живописи. Недаром дальнейшие попытки исторических композиций Брюллова («Осада Пскова» и др.) закончились решительной неудачей. Зато брюлловского романтизма хватило на то, чтобы создать новый этап в русской портретописи, где своеобразно сочетались реалистическое правдоподобие изображений с романтической приподнятостью характеристик («Н. Кукольник», 1836; «Жуковский», 1838; «А. Н. Струговщиков», 1840; «Археолог М. Ланчи», 1851, и т. д.).
Ф. А. Бруни (1799—1875; см.), далеко не такой блестящий по таланту, заменял брюлловскую легкость упорством, а виртуозность выучкой, причем отношение его к старому академизму было много консервативнее. Бруни не столько обновлял, сколько охранял в «Медном Змии» (1835—1840) и других вещах ветхую «итальянщину» программной живописи. Но это значило связать свою судьбу с наиболее обреченным и бесперспективным явлением: недаром уже ближайшее поколение встретило Бруни враждой, а последующее — забвением; первое было оправдано, так как Бруни был главным гонителем молодых реалистов, «передвижников», второе — несправедливо, ибо это был все же крупный мастер, и в его наследии есть такие превосходные вещи, как поэтичные композиции на античные сюжеты: «Пробуждение граций» (1827), «Вакханка» (1828), «Вакхант» (1858), как исполненная с давидовской энергией «Смерть Камиллы» (1824), да и в огромном «Медном Змии» есть фигуры и группы, которые не могут не вызвать признания того, каким большим рисовальщиком был Бруни.
«Явление Христа народу» Иванова было заключительной и самой радикальной попыткой влить обновляющую кровь в отживший вид искусства. Выше Бруни и равный Брюллову по силам, но много превосходящий обоих по глубине, идейности и страстности творчества, А. А.Иванов (1806—1858; см.) был последним подлинно большим классиком «исторической живописи»; он потратил двадцать лет на «Явление Христа», ибо это было для него созданием не очередной, хотя бы крупнейшей картины, но единственно важным, всепоглощающим делом, отвечающим на вопрос о самом смысле жизни; недаром с работой над «Явлением Христа» у Иванова оказался связан интерес к революционным и национально-освободительным движениям 1850-х годов, паломничество к Герцену, общение с Чернышевским и т. п. Так было потому, что тему картины он понимал как «царство божие на земле», в конкретно-жизненном смысле слова, — своеобразный «христианский социализм». Порочность идеи, неустранимая противоречивость ее отразилась такой же коренной раздвоенностью ее художественного воплощения; «царству божию» соответствовал идеалистический стиль композиции, классицирующий, условно величавый; «земле» соответствовала реалистическая осязательность составных элементов, непреложных в своей последовательной жизненности. Но органического соединения не получилось, и в историческом итоге окончание гигантской работы над «Явлением Христа» стало третьей катастрофой, превышающей и неудачу «Гибели Помпеи», и бесплодность «Медного Змия». С академической «программной живописью» было покончено — она навсегда перестала быть силой в русского искусства, а в самом творчестве Иванова центр тяжести переместился на совокупность этюдов и эскизов; они образовали две серии: одна — эскизы к Ветхому и Новому завету, фантастические видения гениальной выразительности, может быть, лучшие из библейско-евангельских отражений за три столетия со времени Ренессанса; другая — этюды с натуры для «Явления Христа», изумительные по зоркости наблюдения и по новизне живописи, предвосхищающей тонкость красочности и силу пластичности французской живописи конца XIX века. А. Иванов вернулся в Россию и выставил «Явление Христа» в 1858 г., среди народно-общественного возбуждения послесевастопольских лет. При огромной «социальной отзывчивости» А. Иванова нет сомнений, что, вернись он на родину десятилетием раньше, последняя фаза его искусства была бы освобождена от раздвоения, и он стал бы в самом центре молодого реалистического лагеря.
Многочисленные академисты второго и третьего николаевских десятилетий были иногда по задаткам способными людьми, но по итогам — обезличенными эпигонами, набившими руку рутинерами; таковы церковные и исторические живописцы: А. Т. Марков (1802—1878; см.), Т. А. Нефф (1805—1876; см.), К. К. Штейбен (1788—1856; см.) и др. Лишь одного художника надо выделить среди них — Н. А. Ломтева (1816—1858), настоящего и своеобразного живописца, сочетавшего традиционный, религиозно-исторический академизм сюжетов с подлинным и интимным романтизмом выполнения, осуществленным экспрессивной кистью и вполне личной, «радужной» по колориту, палитрой. Эта же прививка романтизма дала большую жизнестойкость брюлловским последователям и выученикам. Таковы, прежде всего, венециановцы, перешедшие к Брюллову, — парадно-точный портретист С. К. Зарянко (см.) и более интимный А. В. Тыранов (см.); затем непосредственные «брюлловцы»: Тарас Шевченко (1814—1861; см.), вдумчивый портретист и тонкий пейзажист; Ф. А. Моллер (1812—1875; см.), автор мягких, немного лощеных портретов («Гоголь», 1841; «Бруни», 1840), и превосходные акварелисты — А. П. Соколов (1829—1913; см.), В. И. Гау (1816—1895), Г. Р. Рейтерн (1794—1865); ряд жанристов, изобразителей эффектных бытовых мотивов — Я. Ф. Капков (1816—1854; см.), автор красиво-чувствительных «Вдовушки», «Невесты», «Купальщицы» (1851), Г. Г. Гагарин (1810—1893; см.), облюбовавший кавказские сюжеты: «Переправа горцев», «Свидание генерала Клюгенау с Шамилем», типы горцев.

В. И. Суриков. Покорение Сибири (Государственный Русский музей. Ленинград).
Русская батальная живопись — самая молодая ветвь «программного академизма» — не развилась до сколько-нибудь значительных размеров; ее производили художники вполне средних сил, как упоминавшийся уже сухой, официальный А. И. Зауервейд (см.), более интимный и живописный А. И. Ладюрнер (1789—1855), лихой ура-баталист Б. П. Виллевальде (1818—1903; см.), эффектно-репрезентативный А. Е. Коцебу (1815—1889; см.) и др. В целом батализм не вышел из состояния второстепенного придатка к традиционной религиозно-мифологической линии «исторической живописи».
Основным звеном связи с будущим центральным художественным явлением 1840-х годов стал мастер совсем не монументального искусства, а маломасштабной «бытовой живописи», П. А. Федотов (1816—1852; см.). Он был не одинок в своем жанре: тенденции, темы, положения, типы у него были те же, что у сатирико-бытовых рисовальщиков 1840-х годов, иллюстраторов, литографов, граверов: И. С. Щедровского (ум. 1870; см.), В. Ф. Тимма (1820—1895; см.), А. А. Агина (1816—1875; см.) и др. Он и сам был великолепным графиком. Но в живописи Федотов был разительным исключением: иллюстрационные темы и образы приобретали под его кистью не мимолетную, альманашно-развлекательную природу, а устойчиво-глубокую, неисчерпаемо-живую: зубоскальство перерастало в сатиру, смех смешивался с горечью, непритязательная забавность обликов «маленького человека», разночинного люда — ремесленничества, мелкого чиновничества, младшего офицерства, мещанства — приобретала у Федотова гоголевскую значительность характеров и типов. От непосредственно-живых, автобиографических отражений военно-казарменной жизни (1835—1844 гг.: «Приход дворцового гренадера в свою бывшую роту», «Прогулка художника-офицера с родителями» и т. п.) Федотов перешел к сложным сатирико-лирическим сценкам из разночинного быта (1847—1851 гг.: «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора», «Жена-модница», «Вдовушка»); начало третьего этапа в творчестве Федотова оборвалось на одной вещи («Анкор! еще анкор!», 1851), в которой есть зерно некоего нового полнокровного реалистического стиля.

В. А. Серов. Петр Первый (Государственная Третьяковская галерея. Москва)
Конец 1850-х — начало 1860-х гг. — третья основная веха в русском искусстве послепетровской и екатерининской эпохи. Она обозначила собой впервые программное утверждение, что художник должен быть отображателем жизни родного народа, народным печальником, что русского искусства должно стать национально-реалистическим и общественно-демократическим. Это явилось выражением того огромного общественного подъема, который был связан с революционной ситуацией послесевастопольских, «предреформенных» лет. Хотя по размаху и по разнообразию проявлений русского искусства не поспевало в этом за литературой, все же оно в первый раз за полтораста лет своей истории не только вырвалось из послушания вкусам дворянско-помещичьего класса, но и нашло собственный путь к тревогам и запросам народных масс, требовавших ликвидации крепостнического строя. Молодые художники 1860-х гг. повернулись спиной к старой тематике и старой эстетике, которыми снабжала их академическая традиция. Они отвергли условную красивость экзотической «итальянщины»; они сделали, во след передовой русской общественности, потрясающее открытие, что самое интересное, самое глубокое и самое красивое есть живая народная жизнь вокруг. Знаменитая диссертация Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855) была для нового русского искусства таким же определяющим явлением и боевым знаменем, как для радикально-разночинной литературы: «Общеинтересное в жизни — вот содержание искусства»..., формулировал Чернышевский первую художественную заповедь, «...истинная, высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством...», «прекрасное есть жизнь...». «Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его...». Это было громадным, революционизирующим русское искусство рычагом, несмотря на известную ограниченность приемов назидательного «направленчества», которое сказалось в русской живописи шестидесятых годов.
Новое положение вносило коренные перемены во все традиционные связи художника: радикально менялось отношение, во-первых, к правительственному руководству искусством, во-вторых, к художественной гегемонии Запада, в-третьих, к сравнительной важности видов искусства. Прежде всего, в 1860-х годах идет освобождение от художественной опеки власти. Начинается борьба с Академией, давшая двойной итог: разрушение устаревшей академической системы воспитания художника и противопоставление Петербургу и его правительственной Академии нового художественного центра, в значительной мере общественного, — Москвы и ее Училища живописи и ваяния. Отныне и впредь, вся вторая половина XIX в. и начало XX в. пройдет в русском искусстве при равноправии Москвы и Петербурга, а порою, как в конце 1890-х — начале 1900-х гг., — при первенстве Москвы.

К. А. Коровин. Парижское кафе (Государственная Третьяковская галерея. Москва)
Московское новаторство прошло бы в общественном смысле менее заметно, если бы его не подняла на принципиальную высоту борьба, которая разыгралась между молодежью и профессурой в Академии Художеств. Этот эпизод известен в русском искусстве как «уход четырнадцати» в 1863 г. из Академии (см. XXV, 349/50). Формальным поводом был протест против официального первенствования «исторической живописи» и требование равноправия всех видов искусства; фактически же шла борьба за гегемонию уже выдвинутой Перовым «гражданской», «жанровой» живописи. «Уход четырнадцати» привел к образованию в 1864 г. «Артели свободных художников», которая в 1870 г. уступила место «Товариществу передвижных выставок» (см. XXIX, 511), начавшему с 1871 г. выставочное существование. Огромный успех передвижничества засвидетельствовал, что переход с «официального и законного» на «партикулярное и демократическое» (слова Крамского) положение был совершен в исторически должное время. Знаменательно участие, которое приняла в судьбах раннего передвижничества отечественная пресса. Впервые в печати заговорили о русском искусстве не покровительственно и не благодушно, а со страстью, как о насущно важном явлении; в полемике два лагеря, правительственно-академический и общественно-реалистический, столкнулись принципиально. Социальный пафос живописи молодого Перова и гражданские тенденции раннего передвижничества заставляли «академиков» во всеуслышание заявить, что им «страшно за искусство», что новое направление «оскорбляет нравственное чувство» (Микешин), задается целью «обнаруживать перед обществом скандальные, возмущающие душу сцены» (Рамазанов), но, с другой стороны, молодежь получила радость видеть защитниками своего дела таких людей, как Салтыков-Щедрин, Гаршин. Более того, Перов и передвижничество вызвали к жизни первую в России подлинную художественную критику в лице В. В. Стасова (1824—1906; см.), выступившего в самом начале 1860-х годов с разоблачением изжитости академизма и апологией национально-реалистического искусства; а в лице П. М. Третьякова (1832—1899; см. Третьяковская галерея) пришел и самый большой русский собиратель-общественник, в течение сорока лет отражавший в своей галерее все этапы передвижничества и оказывавший огромное влияние даже на крупнейших мастеров движения. Первое национальное самоутверждение русского искусства сопровождалось «отталкиванием от Европы». Ученичество у Запада стало ощущаться столь же ненужным и даже вредным, как и академическое искусство; классики нежизненны, современники чужеродны, — так можно выразить самочувствие коренных русских реалистов, попадавших в эти годы за границу. Побывав на Западе, осмотревшись, взвесив, они спешили назад на родину. Так было с молодым Перовым, молодым Крамским, молодым Репиным, молодым В. Васнецовым и др.
То, что Крамской называл «национальной чертой», «литературно-художественностью», «тенденциозностью по преимуществу, равно присущей русским литераторам или живописцам», выразилось у художников в смещении центра тяжести с исторической картины на жанровую живопись. Однако между русской литературой и русским искусством этой ближайшей поры есть значительное различие: литература вела, — искусство запаздывало; оно было беднее, обуженнее и неподвижнее; сила его критического реализма была слабее.
Основная роль выпала на долю В. Г. Перова (1833—1882; см.), художника превосходного, но не исключительного дарования, передового, даже демократического, но менее всего революционного мировоззрения. Для Перова характерна широта и неустойчивость его тематики; он, как пионер, брался за все и ни на чем долго не задерживался; он брал городские и деревенские сюжеты, трагические и комические, жанровые и исторические, — везде намечал решения, веские и плодотворные, но обрывал и переходил к следующим. Поэтому он соприкасался с разными художественными группами, но не смешивался ни с одной, ни со старшими, ни с младшими. Старшими были эпигоны академического жанризма и федотовцы; младшими были передвижники.

И. И. Левитан. Над вечным покоем (Государственная Третьяковская галерея. Москва)
Академический жанризм в 1855—1870 гг. был представлен художниками средних сил, заимствованных сюжетов и подражательного стиля; наиболее последовательные облюбовали традиционную, главным образом итало-испанскую, тематику; таковы: И. Н. Реймерс (1818—1868; см.), Е. С. Сорокин (1821—1892; см.), В. Г. Худяков (1826—1876; см.), А. А. Риццони (1836—1902; см.) и др.; интереснее для русского искусства были пытавшиеся овладеть, при помощи тех же приемов, отечественными сюжетами: А. Ф. Чернышев (1826—1863; см.) — в «Петербургском рынке», 1851, «Шарманщиках», 1852, и т. п.; и, особенно, К. А. Трутовский (1826—1893; см.) — в «Малорусских колядках», «Хороводе в Курской губернии», 1860, и пр.; Трутовский позднее даже вошел в «Товарищество передвижников».
«Федотовцы» были не сильнее талантами и слабее выучкой; их эпигонство сказалось в том, что федотовское сочетание сатиры и жалости заменилось сентиментальной выспренностью, слезливым прекраснодушием в доказательствах того, что и бедняк — человек. В боевое время пятидесятых-шестидесятых годов «федотовцы» оказались поэтому на отлете и от подлинного продолжателя и обновителя федотовской традиции — Перова, и от мастеров раннего передвижничества; виднейшие из них: П. М. Шмельков (1819—1890; см.), А. М. Волков (1827—1874; популярное «Прерванное обучение», 1860), Н. Г. Шильдер (1828—1898; «Искушение», 1856), А. А. Попов (1832—1896; см.), Л. Н. Соломаткин (1837—1883; «Славильщики — городовые», 1864), А. Л. Юшанов (1840—1865), рано умерший, но более одаренный и живой, чем его старшие собратья по группе («Проводы начальника», 1864).
Капитальная роль В. Г. Перова состояла не только в том, что он был настоящим преемником Федотова, но прежде всего в том, что он был единственным, который в «эпоху реформ» говорил в русском искусстве полным голосом то, чего ждала от художника передовая общественность и художественная молодежь. Эта молодежь искала себе вождя, и таким она признавала на переломе пятидесятых-шестидесятых годов только одного Перова. Уже наследственно-федотовские сюжеты и приемы были социально заострены Перовым («Первый чин», 1860; «Приезд гувернантки в купеческий дом», 1866, и др.), а перед основной знаменитой серией: «Сельский крестный ход» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Деревенские похороны» (1865), «Утопленница» (1867), «Последний кабак» (1868), зрителю некогда было разбираться, лучше или хуже это написано и нарисовано, — так потрясался он их яростным сарказмом и пронзительной горечью, тем больше, что здесь, впервые за всю историю русского искусства, зритель видел первооснову русской жизни, предмет всех дум — крепостное крестьянство — таким, как оно есть: в нужде, горе, задавленности. Это было самое важное, новое, подлинно перовское слово в искусстве. Оно не сразу подхвачено было ранними передвижниками, которые предпочитали отражать жизнь, а не судить о ней, спешили брать то, что лежит рядом и на поверхности, а не идти на поиски дальнего и в глубину: рядом и сверху лежало городское, разночинное; крестьянские же сюжеты составляют исключение и усиливаются числом и значимостью лишь в 1870-е годы, с началом общественных настроений, вылившихся в «хождение в народ». Значительных и капитальных произведений у передвижников-шестидесятников нет: они начинают работу в тени Перова, а продолжают ее в тени более крепких реалистов 70-х—80-х гг. Таковы у М. П. Клодта (1835—1914; см.) — «Больной музыкант», 1859, «Последняя весна», 1861, и др.; у В. В. Пукирева (1832—1890; см.), — «Неравный брак», 1862, «Прием приданого», 1873, и др.; у Н. П. Петрова (1834—1876) — «Сватовство чиновника к дочери портного», 1862; у А. И. Морозова (1835—1904; см.) — «Обед на сенокосе», 1861, «Летний день», 1878, и др.; у Н. В. Неврева (1830—1904; см.) — «Торг крепостными», 1866, «Семейные расчеты», 1888; у А. Н. Корзухина (1835—1894; см.) — «Возвращение с сельской ярмарки», 1868, «Перед исповедью», 1877, «В монастырской гостинице», 1882.
Переход к жанристам-семидесятникам образуют три наиболее интересных художника этой группы: чистейший «перовец» по началу В. И. Якоби (1836—1902; см.), сказавший в знаменитом «Привале арестантов» (1861) новое и запомнившееся слово, какого не сказал учитель, но на этом оборвавший свою связь с жанровой живописью; талантливый, но не развивший своих возможностей И. М. Прянишников (1840—1894; см.), умевший удачно, хотя и по чужим следам, откликаться на потребности каждого десятилетия («Шутники», 1865, «Порожняком», 1871, «Жестокие романсы», 1881, «Спасов день на севере», 1887); наконец, менее одаренный, но упорный В. М. Максимов (1844—1911; см.), не прекращавший роста и вошедший своим человеком в следующее поколение («Шитье приданого», 1866, «Колдун на свадьбе», 1875, «Семейный раздел», 1876, «Все в прошлом», 1889). Это поколение 1870-х годов значительнее предыдущего тем, что жизненность в его произведениях шире, нарочитой тенденции — меньше, средний уровень дарований — выше. У его руководящих мастеров, Крамского и Ге, нет исключительности положения Перова среди шестидесятников, и в его составе уже выступают с молодыми работами самые большие мастера передвижничества и прежде всего Репин. Наконец, именно в эту пору делаются первые успешные попытки подчинить передвижнической эстетике самую трудную и отдаленную область — историческую картину.
Для среднего уровня сил и среднего круга интересов жанризма 1870-х гг. типичны два художника: для правого крыла — В. Е. Маковский, для левого — К. А. Савицкий, один — «либерал», другой — «демократ». В. Е. Маковский (1846—1920; см.) — человек прекрасных способностей, но и самый ретивый приспособленец к обывательскому вкусу, сведший свои живописные возможности к нарядной легкости, а свою жизненную наблюдательность — к занятным происшествиям; это обеспечило его «живописной хронике» широчайшую популярность, но и исторически обесценило его творчество. К. А. Савицкий (1854—1905; см.), наоборот, неторопливый и вдумчивый художник, ищущий значительных сюжетов народного характера, занятый современной жизнью народных масс; у его немногих картин этого рода — истинный вес: «Ремонтные работы на железной дороге» (1874), «Встреча иконы» (1878). К Савицкому примыкает Г. Г. Мясоедов (1835—1911; см.), хороший знаток деревни («Земство обедает», 1872; «Чтение манифеста», 1873; «Раскольники-самосожженцы», 1884), и Н. А. Ярошенко (1846—1898; см.) — крайняя левая точка передвижничества, единственный художник революционного разночинства, отобразитель его настроений и людей, технически не сильный, но поражающий страстностью и прямизной социального протеста («Кочегар», 1878; «Заключенный», 1879; «Студент», 1881; «Всюду жизнь», 1888).
Первенствование жанризма, как основы «идейного реализма» в передвижническом искусстве, сказалось особыми чертами на портрете и на исторической картине. Накопление наблюдений над людскими типами, тяготение к характерным фигурам, уменье передать внутреннюю жизнь лица, жеста, движения должны были бы не только обновить портретное искусство, но и привести к усилению распространения портретизма. На самом деле портрет был оттеснен на задний план, портретизм, как обособленная специальность, самоупразднился: в 1860-х годах еще доживают николаевские портретисты — Зарянко, Мокрицкий, делает последнюю предсмертную группу портретов Шевченко, но к 70-м годам не остается из них ни одного. В новом же поколении специально портретописью занимаются немногие: портретизм 60—70-х годов сводится, в сущности, к Крамскому, Ге и Перову, для которых он — только доля более широкого и сложного творчества. Но значительность художников и значительность изображаемых ими лиц наделяют эти портреты большой весомостью. История современного русского портрета начинается отсюда: передача человеческого своеобразия не только во внешних чертах, но и во внутреннем его складе становится целью художников; ради этого они готовы отодвинуть в тень собственную индивидуальность. Таковы: «Толстой» и «Некрасов» у Крамского, «Островский» и «Достоевский» у Перова, «Герцен» у Ге.
Наибольшие трудности представляло для передвижничества овладение «исторической картиной»: здесь упорнее, чем где-либо, давали себя знать академические традиции; с другой стороны, основной регулятор передвижнического искусства, жанризм, требовал, применительно к себе, коренной переработки содержания и форм «исторической живописи». Отказываться от последней передвижники не имели намерения: Крамскому и его сотоварищам мыслилась реорганизация на основе «идейного реализма» всего искусства в целом, а не какой-либо его части. Перов завершает в 70-х годах свое творчество капитальными попытками религиозной и исторической живописи («Христос в Гефсиманском саду», 1878; «Никита Пустосвят», 1881; «Суд Пугачева», 1873—78), а Ге и Крамской даже сосредоточивают свои решающие усилия на произведениях того же религиозного и исторического порядка. Итоги этой первой борьбы, за обновление исторической картины были двойственны: с одной стороны, психологизм и характерность сделались основным приемом для изображения действующих лиц, а археологизм и протокольность — средством для передачи места действия; но в то же время академизм был не разрушен, а приспособлен к передвижнической эстетике, и она, в свою очередь, пошла на компромисс с традицией: берясь за историческую тему, большинство передвижников-«историков» в свое привычное отображение душевного склада и внешнего облика «маленького человека» внесли мелодраматический пафос и условную импозантность академизма.
Историческую живопись 60-х—70-х годов представляют три группы художников: академисты, академико-передвижники, передвижники. Академистами являются чистые эпигоны старой «исторической живописи»: Ф. А. Бронников (1827—1902; см.), К. Ф. Гун (1830—1877; см. XVII, 394/95), П. П. Чистяков (1832—1919; см.), К. Д. Флавицкий (1830—1866; см.). К академико-передвижникам принадлежат: К. Е. Маковский (1839—1915; см.), брат жанриста, направивший свою семейную одаренность и приспособленчество от жанровости к академизму псевдоисторических «боярских пиров», «поцелуйных обрядов» и т. п.; А. Д. Литовкенко (1835—1890; см.) с его историко-бытовыми темами, будничностью положений и обильным археологизмом аксессуаров; жанрист Н. В. Неврев (см. выше), писавший также на «исторические» сюжеты («Присяга Лже-Дмитрию», 1877; «Никон перед судом», 1888), перемежая их с ретроспективно-бытовыми («Актер Мочалов среди поклонников», 1888), и особенно — В. И. Якоби (см. выше), превратившийся, после заграничной поездки, из автора «Привала арестантов» в приверженца академического историзма.
В собственно-передвижнической группе работа над обновлением исторической живописи пошла по двум руслам: во-первых, в виде последовательного археологизма, натуралистической документальности изображения старинной жизни в ее бытовом укладе. Это течение кристаллизовалось в творчестве В. Г. Шварца (1838—1869; см.), этого «Забелина живописи». Продолжателем, но и преобразователем шварцевской линии стал В. В. Верещагин (1848—1904; см.), у которого археологический натурализм русской тематики заменен этнографическим натурализмом восточных и батальных сюжетов, а занимательная повествовательность — гуманитарной и пацифистской проповедью (туркестанская и индийская серия 1871—1873 гг.); завершением у него явились два военно-исторических цикла: цикл «Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.», тогда же написанный, и цикл «Отечественной войны» (1890-е годы).
Иным путем пошло второе течение собственно-передвижнического историзма. Преемственность искусства тут не разрывалась, а обновлялась. В то время как у Шварца и Верещагина не было последователей, за Ге и Крамским, наоборот, пошли Репин, Суриков, Васнецов и «историки» 90-х гг. Ге и Крамской взяли исходной точкой Александра Иванова, но они пытались преодолеть его раздвоенность между академизмом и реализмом, между мистикой и эмпирикой, и методами «идейного реализма» превратить «религиозную картину» в «историческую»; с другой стороны, они противились снижению «большой темы» до уровня повседневной хроники. И. Н. Крамскому (1837—1887; см.) это удалось больше, чем Ге: его «Христос в пустыне» (1872) — до конца живой и подлинно большой человек, изнемогающий под бременем задачи выше человеческих сил; масштабы холста оправданы, увлеченность художника своей темой явна и заразительна, исполнение бережное и полносильное; если в итоге получилось значительное, но не могучее произведение, это свидетельствует не только о том, что живописное дарование Крамского органически ниже его замысла, требовавшего рембрандтовской силы выполнения, но и, более обще, — об ограниченности раннепередвижнической эстетики, считавшей реализмом дробное, измельченное, недостаточно глубоко обобщенное отображение действительности. Какой-либо второй «исторической картины» Крамской не создал, хотя и брал новые темы. По существу он был все же мастером жанра, который он облагораживал тонкой и умной разработкой, придававшей сюжету эмоциональную общезначимость («Незнакомка», 1883; особенно «Неутешное горе», 1884). В Крамском с типической чистотой выразила себя природа передвижнического «идейного реализма». Сложнее это было у Н. Н. Ге (1832—1894; см.): он одержим проблемой «человеческой совести», — весом «подвига» и «предательства» в делах «веры» и «государственности» («Петр и Алексей», 1871; долголетний цикл о Христе и Иуде, 1863—1892). Это сюжетное постоянство придало облику Ге монолитность и выпуклость, которые превозмогли его живописную двойственность, прорывавшую границы передвижнического стиля то в прошлое — к академизму, то вперед — к импрессионизму; последующие поколения художников не подхватили этих метаний, но отдали должное его попыткам передачи полноты воздуха и света, которые Ге сделал в побочных областях, — в портрете («Н. И. Петрункевич», 1893) и в пейзажах, развивавших линию А. Иванова.
Однако для современников Ге, пейзажистов 1860—1870-х годов, эти его опыты не типичны. Их работа стоит в прямой внутренней связи с передвижническим жанризмом. Идет увлеченное познание обликов родной земли. Это создало никогда раньше в русском искусстве невиданный рост числа пейзажиство. Наступление реалистического пейзажа проходит при отсутствии сопротивления со стороны академистов; их вообще мало, и затем они «иноземствуют», то фактически сидя за границей, то художественно имитируя французские, швейцарские, немецкие образцы, они обладают очевидным, как у Л. Ф. Лаворио (1827—1905; см.), или выдающимся, как у А. П. Боголюбова (1824—1868; см.), или даже блестящим, как у И. К. Айвазовского (1817—1900; см.), дарованием, но то, что они делают, является для русского искусства второстепенной, боковой работой. Передвижнические «пейзажисты противопоставляют скудости и замороженности этих «русских иностранцев» свою жизненность и свой пафос. В рамках пейзажного реализма они делятся на три групповые уклона. Во-первых, уклон познавательно-натуралистический; основной фигурой здесь является И. И. Шишкин (1831—1898; см.).. Второй уклон — лирико-реалистический; центральное явление тут представляет А. К. Саврасов (1830—1897; см.), в нескольких картинах настоящий русский «барбизонец» («Конец лета на Волге», «Проселок», 1879), а в одной вещи — «Грачи прилетели» (1871) — обаятельный поэт, основоположник русского пейзажного лиризма. Трезвее — М. К. Клодт (1832—1902; см.), подобно Шишкину, наблюдатель природы, но всегда несколько взволнованный тем, что видит (особенно в картине «На пашне», 1872). Этого же типа — пейзажная живопись Л. Л. Каменева (1833—1866; см.). В противоположную сторону тянет очень одаренный, но и очень рано умерший Ф. А. Васильев (1850—1873; см.): присущая самой природе красота его не удовлетворяет, он еще принаряживает ее, перенося на свои с тонкостью и вкусом выбранные «передвижнические ландшафты» готовые элементы пейзажизма «барбизонской» и «дюссельдорфской» школ. Эта привнесенная со стороны красивость переходит зачастую в невзыскательное эффектничанье у способного, но откровенно работавшего на рынок Ю. Ю. Клевера (1850—1924; см.). Васильевские тенденции оформились в третью разновидность передвижнического пейзажизма — в «декоративный натурализм» — у А. И. Куинджи (1824—1910; см.), который, с одной стороны, стремился к тончайшей, даже иллюзионно-панорамной передаче природы, но, с другой, тяготел в ней лишь к «картинным» моментам, впервые в русской живописи найдя красками зрительные эквиваленты лунного и солнечного сиянья («Украинская ночь», 1876, знаменитая «Березовая роща», 1879, и др.) и других световых эффектов природы.
В сравнении с живописью графика в искусстве 60-х—70-х годов имеет подсобное, а скульптура — второстепенное значение. Определяющие образцы гравюры и рисунка этой поры создаются все теми же живописцами-передвижниками, которые выступают не только с одиночными графическими вещами, но и с целыми сериями или отдельно изданными альбомами (особенно Шишкин). Наоборот, граверы-профессионалы единичны: таков йордановский ученик, отличный техник, изящный, но неглубокий портретист И. П. Пожалостин (1837—1909; см.),
гравировавший на меди, и затем Л. А. Серяков (1824—1881; см. XLI, ч. 6, 603/04), гравер на дереве, уверенный мастер репродукционных политипажей и журнально-книжных заставок и виньеток. Особого упоминания требуют мастера боевого, публицистического рисунка и карикатуры, работавшие бок о бок с писателями в альманахах и журналах: в большинстве это — самоучки, но свой дилетантизм и подражательность они часто перекрывают общественно-политической содержательностью рисунков; таковы Н. А. Степанов (1807—1877; см.), А. И. Лебедев (1830—1898) и Н. В. Иевлев (1830—1866; см. XXII, 573), участники «Искры», специалисты общественно-бытовой карикатуры и иллюстративного рисунка.
В скульптуре передвижничества 60-х—70-х годов преобладают промежуточные академико-натуралистические явления: академический жанрист С. И. Иванов (1828—1903; «Мальчик в бане», 1854) и чистые эпигоны поздней николаевщины — велеречивый дилетант М. О. Микешин (1836—1896; см. XXVIII, 616/17); насквозь подражательный Р. К. 3алеман-старший (1813—1874; см.); неблестящий, но иногда, как в «Памятнике Пушкину» (1880), удачливый А. М. Опекушин (1841—1923; см.); В. П. Крейтан (1832—1896), верный сын академизма («Сеятель», 1862), хотя и покинул Академию в 1863 г. в составе «14». Отчетливее реалистические тенденции у Н. А. Лаверецкого (1837—1907; см.) и еще более у Ф. Ф. Каменского (1838—1913, см.; «Первый шаг») и Н. И. Либериха (1828—1883; см.); это совсем оформляется и даже доходит до натуралистической чрезмерности у способного, наблюдательного, плодовитого, но и мелочного анималиста Е. А. Лансере (1848—1887; см.). Единственное историческое явление скульптуры в эту пору — творчество М. М. Антокольского (1843—1902; см.), который ретроспективным психологизмом «Ивана Грозного» (1870), «Петра I» (1872), «Христа» (1874), «Смерти Сократа» (1875) и т. п. встал в уровень с «историзмом» Ге и Крамского и вошел полноправным членом в плеяду первенствующих передвижников. Его художественный стиль — последовательно-реалистический, однако с чертами умеренно-академической сглаженности. Таким он останется и в 1880-х годах, почти не меняясь, лишь усложняя иногда тему и обработку («Мефистофель», 1883, «Христианская мученица», 1888).
Восьмидесятые годы в русского искусства характеризуются двумя явлениями: расцветом передвижнического реализма и попыткой академизма противопоставить себя господствующей школе. В этой попытке отразилось давление политической реакции 80-х годов, так же как в расцвете реалистического течения отразилось сопротивление демократической общественности. Для идейных канонов восьмидесятнического академизма характерна его связь с внедрением «классики» в систему просвещения; академические живописцы этого времени — «историки», и преимущественно — «античники». Для передвижничества 80-х годов, наоборот, показательна широкая связь с общественно-передовой научной и художественной культурой и особенно с литературой.
Новая плеяда академистов, показала хорошую техническую подготовленность и очевидную одаренность; но даже художник таких крупных способностей, как Г. И. Семирадский (1843—1902; см.), ни идейно, ни стилистически не выдерживает сравнения с руководящим передвижничеством в лице Крамского или Ге, тем более — Репина или Сурикова; у них у всех было что сказать важного для себя и для других, — у Семирадского же во всех его композициях впереди всего — виртуозная кисть и легкая повествовательность. Исторически весомее те художники труппы, у которых, при меньшей талантливости и техничности, больше заинтересованности в теме и больше скромности в выполнении: С. В. Бакаловт (1857—1906; см.), с его «древнеримскими» картинами в духе «живописно-археологического реконструктивизма» Альмы Тадемы (см.), и еще более В. С. Смирнов (1858—1890; см.), который импозантнее по масштабам и интереснее по сюжету в своей главной композиции «Смерть Нерона» (1883). Вариант «реконструктивизма» — у А. А. Сведомского (1848—1911; см. XXXVII, 522/23) в его «Улице в Помпее» (1882). Этот «археологизм», равно как усиление элементов света и воздуха у Семирадского, — вот все, к чему свелось омоложение академизма.
Такова заключительная фаза русской полуторавековой академической традиции; в этом смысле, на новоакадемистах лежит печать исторической примечательности. Но она несоизмерима с подлинно-историческим весом того, что принесли в ту же пору молодые мастера реализма. Менее всего при этом можно говорить о появлении новых имен; передвижничество растет не вширь, а вглубь; все 80-е годы оно опирается на художников, вошедших в искусство в 70-х годах. Наибольшее количество новых имен сосредоточивается в живописи; ни одного нового мастера нет в скульптуре, и только один новый человек появляется в гравюре (точнее — в офорте, ибо резцовая гравюра, вытесняемая фотомеханической техникой, вообще хиреет): это — В. В. Матэ (1856—1897; см.), «живописец иглой», портретист репинского направления, но не репинской жизненности, предпочитающий светотеневую игру на лице модели сходству и глубине характеристики. Но и в самой живописи приток новых сил неравномерен: без пополнения остается «бытовая картина», она продолжает держаться на жанристах-семидесятниках; крайне слабо расширяется и круг пейзажистов; новых решающих величин тут нет, а интересные явления лишь завершают пейзажное семидесятничество; так, на 1878—1879 годы приходятся пейзажи В. Д. Поленова (1844—1927; см. XXXII, 666/68), с их интимно-лирическим, пейзажно-жанровым оттенком (в особенности — «Московский дворик», 1878; затем «Заросший пруд», 1879, и усадебно-тургеневский «Бабушкин сад», 1878); с другой стороны, в конце 80-х годов появляются предвестники нового расцвета пейзажизма: первые пейзажи Левитана и Серова. Центральная же полоса 80-х гг. проходит в пейзаже на средних произведениях средних художников; таковы: Н. Д. Кузнецов (родился в 1850; см.) с жанровым пейзажем «Объезд владений» (1879) или способный, но нерешительный пейзажист-жанрист С. И. Светославский (1857—1931) с «Весной» (1887), «Постоялым двором в Москве» (1892) и т. п.; более свежий И. Н. Дубовской (1859—1922; см.), левитановский предтеча по началу («Зима», 1884; «Ранняя весна», 1886; «Притихло», 1890) и левитановский эпигон по концу (пейзажи 1890—1900-х годов), наконец, А. М. Васнецов (1856— 1933; см.) с поэтически-суровыми мотивами русской северной природы («Родина», 1886; «Тайга на Урале», 1891; «Утро», 1892), смененными позднее на «исторические пейзажи» зрительно-воссозданной и археологически-документированной «Москвы XVII столетия» (работы 1900-х гг.).
Основные художники — Репин, Суриков, В. Васнецов в 1880-е гг. сосредоточились на широко понимаемой «исторической картине» и «портретной картине», и обе эти области живописи стали определяющими для русского реализма 80-х годов. С творчеством И. Репина (1844—1930; см.) «портрет» не только получил первенствование, но и достиг обновления и углубления по сути и по форме. Репин устранил раздвоение, образовавшееся в портретописи 1860—1870-х годов между «жанризмом» и «историзмом», — между изображением «маленького», «неисторического» человека и изображением «большой», «исторической» личности. Репинский портрет, это — величайшее внимание к внутреннему и внешнему, душевному и физическому облику каждодневно встречающегося обыкновенного человека. Чего-либо необычного для русской художественной культуры второй половины XIX века тут не было: Репин повторил в живописи то, что в литературе было сделано раньше и многообразнее Тургеневым, Достоевским и особенно Толстым с их «средним русским человеком» в качестве героя творчества; ближе всего Репин к Толстому, ибо у него нет в изображении людей ни гиперболизма Достоевского, ни тургеневской приглушенности; репинская портретопись идет по основному жизненному разрезу модели, с тем пристальным, цепким пониманием ее особого, неповторимого ни в ком другом своеобразия, которое поднимает ее среднюю жизненную заметность до общезначимого, всем интересного явления. В этом — суть репинского таланта и репинской техники. Именно это придает портретам безымянных моделей — «Мужичку из робких» (1877), «Мужику с дурным глазом» (1877), особенно «Протодьякону» (1877) — такую же личную значительность и художественную рельефность, как изображениям именитых людей: А. Ф. Писемского (1880), Н. И. Пирогова (1881), М. П. Мусоргского (1881), П. А. Стрепетовой (1882), даже Л. Н. Толстого (1887). Этой человеческой выразительностью определяется у Репина живописная природа его мазка, энергичного, но и сдержанного, не переходящего ни в декоративную размашистость, ни в жанровую мелкопись; ею обусловлены приемы его портретной композиции, ищущей средних масштабов и заполнения всей плоскости фигурой; с ней связаны и особенности немногих его больших бытовых и исторических картин 80-х гг. Для первых знаменателен переход от социально-политической идеи «Бурлаков» (1870—1873), через промежуточную, жанрово-сатирическую тему «Крестного хода» (1880—1883), к интимно-психологической задаче «Не ждали» (1884). Для вторых характерно перенесение исторического сюжета в среду живых, сегодняшних людей: в «Царевне Софье» (1879), в «Иване Грозном, убившем сына» (1885), в «Запорожцах, пишущих письмо султану» (1880—1891) Репин не ищет никакого объективного соответствия исторической правде; у него тут — портреты живых моделей, лишь в драматизованном действии и архаической костюмерии. Это повышает эмоциональную и физическую выразительность изображения, но и уничтожает историко-познавательную ценность композиции. Портретизм Репина, таким образом, довершил то, что уже начал жанризм 60—70-х гг.: уничтожение в исторической картине ее основного свойства — историзма. Отсюда дальше дороги не было; она шла по другому направлению, от другого художника — от В. И. Сурикова (1848—1916; см.), величайшего из русских исторических живописцев и одного из немногих мировых мастеров этого рода живописи; его огромное своеобразие состоит в том, о его влечет не вообще русская старина, а народная жизнь в ней, и не мирно-бытовая, а трагическая, — народное «вольничанье», расплачивающееся кровью за мятеж («Утро стрелецкой казни», 1881), за раскол («Боярыня Морозова», 1887), за добычу новых земель («Покорение Ермаком Сибири», 1895); при этом его волнует не отдельная человеческая судьба, а «мирская», сливающая в единое большое действие и единую расплату за него многие жизни; единственное произведение, где художник занят индивидуальной людской участью, — «Меншиков в Березове» (1883); но и тут — униженный и разбитый «полудержавный властелин» в крестьянской ссылочной избе. Характерна противоположность суриковского реалистического метода заимствования материала у жизни — методу репинскому: Репин сводил историческое к современному, Суриков отыскивал в современности то, что зажилось, задержалось, было в XIX веке таким же, каким было в XVI, в XVII, в XVIII в., — в народной массе сохранились в 1880-х годах люди, типы, фигуры, которые могли бы жить такими же и в прошедших веках; такой метод требовал величайшей чуткости и зоркости, совершенного слияния с народом и понимания его; в этом решающем пункте Суриков был глубочайшим реалистом и подлинно-народным художником.
Третий и последний вариант «исторической живописи» в эти годы дал В. М. Васнецов (1848—1926; см.): у него — собственная основная тема и собственный реалистический метод; от чистого жанризма («Книжная лавочка», 1876, и т. п.) он перешел к эпическим, древнейшим пластам русской народной жизни в ее поэтически-сказочном самовыражении; он начал восьмидесятые годы с отражения «Слова о полку Игореве» («После побоища с половцами», 1880); затем следовали народные сказки («Аленушка», 1881, «Три царевны», 1884, «Иван-царевич на сером волке», 1889) и, наконец, народно-песенный «Иван Грозный» (1897) и былинные «Три богатыря» (1898) — монументальный апофеоз васнецовского творчества. Передвижническая эстетика Васнецова стремилась наделить создания народной поэзии жизненной осязательностью и вместе, с тем старалась не потерять сказочности; приблизиться к такому равновесию натурализма и фантазии можно лишь при огромной силе воображения и столь же большом мастерстве выполнения; первым свойством Васнецов был наделен в должной мере: образы, им найденные, всенародны по своей простоте и естественности; но второе свойство не было на такой же высоте; у него не могучая по силе и не щедрая по красочности кисть; она скорее раскрашивает предметы, оживляет фигуры, чем лепит всю картину целостно и стихийно. Эта раздвоенность сказалась с особой силой, когда Васнецов оторвался от прямого народного источника образности и сменил его в 90-х гг. на церковно-православную тематику: псевдодревние и псевдорусские иконы и росписи привели бы его талант к гибели, если бы Васнецов не поддерживал его время от времени обращением к своей исконной тематике.
В значительной мере это может быть повторено и в отношении В. Д. Поленова (см. выше). Отличный пейзажист и хороший жанрист, Поленов прежде всего хотел быть историческим живописцем; но он ставил себе задачу много выше своих сил, какую не разрешил ни Александр Иванов, ни Ге. Поленовская тема — все та же, «евангельская»: «Христос и грешница» (1884), «Христос на Генисаретском озере» (1888), «Среди учителей» (1896); поленовский метод — скрещение академизма, долженствующего поэтически приподнять образы, с натурализмом, предназначенным облечь их в земную плоть; результатом явилось гибридное искусство, сближающее Поленова с Семирадским и спасаемое от легковесности лишь искренностью творчества и серьезностью труда. В русской живописи Поленов жив тем, что сам он считал второстепенным, — в том числе рядом подготовительных этюдов с натуры к своим историческим композициям.
Прямых продолжателей не оказалось ни у Репина, ни у Сурикова, ни тем более у Васнецова; было лишь несколько способных художников, примыкающих то к одному, то к другому мастеру или направлению; наиболее типичен в этом смысле К. В. Лебедев (1852—1916), который оставил в своих технически уверенных и художественно-безличных композициях эклектический набор всех тенденций и приемов исторической живописи своего времени («Боярская свадьба», 1883; «Уничтожение новгородского веча», 1889; «Полонянники», 1892; «Пьяный боярин», 1897; «К боярину с изветом», 1904, и т. п.).
Девяностые годы — это кризис передвижничества после тридцатилетней гегемонии «идейного реализма». Передвижничество в идейном смысле утрачивает свой демократический характер, отходит от основной линии русского общественного развития, минует обострение социальных противоречий в стране и прежде всего — рост рабочего движения. Передвижничество приобретает профессионально-академический облик: в 1893 г. ряд передвижников, во главе с Репиным, приглашаются правительством к руководству Академией Художеств и в большинстве принимают это предложение (не пошли Суриков, Васнецов, Поленов), при шумных протестах семидесятилетнего Стасова, обличавшего эту «измену» демократизму реалистического искусства. В художественном отношении передвижничество порывает связи с традициями 70-х—80-х годов. Так, Васнецов завершает теперь свой переход в иконность (огромный цикл образов и росписей Владимирского собора в Киеве, начатый в конце 80-х и осуществленный в 90-х годах); Репин заменяет в портретах былую многогранную цельность характеристик односторонней выразительностью какого-либо одного приема, — казовостью позы, эффектностью жеста, нарядностью красок, ритмизованностью контуров, пленэрностью среды и т. п. («Баронесса Икскуль», 1889, «Адвокат Спасович», 1891, «Портрет дочери с осенним букетом», 1892, «Портрет Н. Головиной», 1895, и т. п.), а затем, с началом 1900-х годов, у него появится самодовлеющая живописность, отражающая уже влияние новой школы (такова общая композиция «Государственного совета», 1901—1903 гг., и блестящие этюды к портретам для него, построенные не столько на характеристиках сановников, сколько на нарядности их мундиров; такова плохая и по живописи, и по сути религиозная картина «Иди за мной, Сатано», 1901), а в конце 1900-х и в 1910-х гг. — бесформенная красочность портретов типа «Молящегося Толстого» (1912) и картин: «17 октября 1905 г.» (1911), «Самосожжение Гоголя» (1909), «Лицеист Пушкин на торжественном акте» (1911) и т. п. У Сурикова девятидесятничество сказывается в колебаниях между былой трагедийной суровостью тематики и живописи и новою легкостью сюжетов и красок: таков «Снежный городок» (1890—91) — изображение веселого народного игрища, выполненное цветистой палитрой; оно сменяется «Покорением Сибири» (1895), сделанным в исконной, могучей суриковской традиции; следующая композиция — «Переход Суворова через Альпы» (1899) — наряду с подлинно суриковскими элементами обнаруживает неожиданное соприкосновение с батальными эффектами Коцебу; заключительная же вещь середины девятисотых годов — «Степан Разин» (1907) — и разработкой сюжета, и строем живописи антисуриковская, неглубокая, декоративная. Обмеление творчества еще более заметно у эпигонов передвижничества, прежде всего — у бытовиков; вместе со своим главою, В. Маковским, ставшим профессором Академии, они теперь, невзирая на действительность, уже чреватую надвигающейся революцией, сугубо благодушны и удовлетворенны; такова же и последняя смена передвижничества, выступившая в 90-х годах: Н. П. Богданов-Бельский (р. 1868; см.), ранний Л. О. Пастернак (р. 1862; см.); Н. А. Касаткин (1862—1931), который в середине девяностых годов, после рядовых жанров, сделал смелую попытку поднять необычную и жгучую тему пролетарского труда («Шахтерка», 1894, «Смена углекопов», 1895, «Шахтер-тягольщик», 1896), однако затем вернулся к привычному бытовизму («Кто?», 1897). Такая короткость соприкосновения с социально-заостренной проблемой и быстрота отхода от нее характерны и для других молодых бытовиков девятидесятничества: С. А. Коровин (1858—1908; см.) выступил с примечательной и по художественности, и по содержательности картиной «На миру» (1893), отразившей социальную борьбу в деревне; но дальше он своей значительности не поддержал и перешел к житейской жанровости («К Троице», 1896); С. В. Иванов (1864—1911) дал было, по началу, страшную по своей правдивой трагичности «Смерть переселенца» (1889), но опять-таки затем уклонился от связей с мучительной российской действительностью и ушел в прошлое, к русской старине.
«Пейзажность» сменила теперь гегемонию «портретности» 80-х годов. Пейзаж стал наиболее сильным видом искусства; обновленный и по существу, и по форме, он непосредственно окрасил своими свойствами жанровую и историческую живопись и косвенно — живопись портретную. Пейзажизм пришел в саврасовской, «лирической» традиции. Ее «субъективный реализм» передавал по преимуществу элегические настроения, очень близкие к тем, которые в русской литературе носят наименование «чеховских». Крупнейший мастер нового пейзажа, И. И. Левитан (1861—1900; см.), выразил эту родственность в наиболее чистой и последовательной форме: его «настроенческие пейзажи» произвели на современников огромное впечатление, не сравнимое ни с чем в истории русского пейзажа ни до, ни после Левитана; это обусловливалось сочетанием трех левитановских свойств: своеобразием зорко найденной, чисто русской, национальной характерности изображаемых «уголков природы», подлинно-человеческой глубиной и интимностью выражаемых чувств, и превосходным мастерством живописи. В искусстве Левитана можно отметить три фазы: на первом этапе (с 1886 по 1892) уже есть по-левитановски найденные пейзажные мотивы, но они еще слабо окрашены лиризмом самого художника («Вечер на Волге», 1886, «Березовая роща», 1889, «У омута», 1892, «Вечерний звон», 1892, «Владимирка», 1892); на втором этапе (с 1893 по 1896 г.) и выбор мотивов, и передача чувства носят уже характер ярко выраженной элегичности («Над вечным покоем», 1893—1894, «Март», 1896, «Золотая осень», 1896, и др.); на третьем этапе (с 1896 по 1900 г.) проступает сложная примиренность, «мажорно-минорный» лиризм («Весна — большая вода», 1897, «Сумерки — стога», 1899, «Летний вечер», 1900, «Озеро», 1900); для первого периода характерны несколько дробная форма и локальная красочность, для второго — обобщенная контурность, широкий мазок, господство одного красочного ключа; для третьего — усложненная и утонченная палитра, одинаково приспособленная и к объективно-видимой и к субъективно-воспринимаемой природе.
К. А. Коровин (1861—1936; см.) менее целен; он частично передавал русскую природу по-левитановски и по-серовски («Деревня», 1902, «Летом», 1902, «Дворик», 1905, «У сарая», 1905, и т. п.). Наряду с этим, обратившись к северным мотивам, он дал несколько грубоватые картины и панно («Зима в Лапландии», 1894, «На дальнем Севере», 1894, — панно для северного павильона Нижегородской выставки, 1896, ныне на Ярославском вокзале в Москве), которые плохо вяжутся с тем, что составляет самое индивидуальное у Коровина, — с необыкновенно тонкими, живописно-совершенными небольшими холстами, привезенными Коровиным из Испании, Италии, Франции, с Кавказа, из Крыма после поездок 1885 и последующих годов («Испанский кабачок», «У балкона», 1885, «Покупка кинжала», 1889, «Марсельский порт», «Парижское кафе», 1890-е гг., «Парижские улицы и бульвары», 1906—1911, «Крымские набережные», 1910-е гг.). Коровин этих вещей — первый русский импрессионист и лучший русский пленэрист. Однако после подлинной общедоступности Левитана и рядом с нарочитой простотой Серова это коровинское искусство несколько узко и специально; художник и не пытается поднять его до общедоступной красоты и поэтичности; когда же в 1910-х гг. Коровин стал попросту работать «на публику», он кинулся в бравурно-щегольское красочничество, подсказанное его театрально-декорационным опытом (декорации к «Спящей красавице», «Золотому петушку», «Коньку-Горбунку», «Корсару» и т. д.) и лишь изредка приносившее удачи («Крымские пейзажи» и «Букеты роз», 1910—1916 гг.), чаще же стоявшее на грани вульгарности и не раз переходившее ее.
В. А. Серов (1865—1911; см. XLI, ч. 6, 599/601) в наибольшей степени выразил гегемонию «пейзажного начала» в 1890-х—1900-х гг. Собственно пейзажем Серов занимался мало; первые пейзажи датируются у него тем же годом, что и левитановский основоположный «Вечер на Волге», — у Серова этому соответствует «Осенний вечер» (1886); вообще за два десятилетия (1886—1905) Серов дал лишь около двадцати пейзажных работ, а в последнюю пору творчества он не писал их вовсе. Однако пейзаж продолжал оставаться подпочвой всех видов его искусства, то проступающей, то прикрытой. Это прямо сказалось на серовских «жанрах»: типична «Линейка из Москвы в Кузьминки» (1892), где подлинный жанрист показал бы ряд типов, а Серов только жару, пыль, да волочащийся трусцой рыдван, набитый тюфяками неразличимых тел; таков и весь ряд подобных же пейзажей, будь в них жанровость выражена мимоходом («Октябрь», «Зимой», 1895), или усилена («Баба в телеге», 1895), или словно выставлена даже на первый план, как в «Бабе с лошадью» (1898), где человеческий облик не выразительней лошадиного. Немногим более прикрыто пейзажное начало в исторических композициях Серова: исторические герои выступают в них только в качестве «подробностей» пейзажа — таков «Молодой Петр I на псовой охоте» (1902), «Екатерина в двуколке» (1902) и др., и только в позднейшем «Петре I на набережной строящегося Петербурга» (1907), где сказалось влияние учебно-прикладного назначения композиции (для издательской серии «Картин по русской истории»), Серов, не отказавшись от преобладания пейзажа, ключом его сделал стремительно шагающую впереди свиты фигуру преобразователя. В центральной части серовского искусства — в портрете — «пейзажное начало» проявило себя без покровов лишь вначале: в «Девушке с персиками» (1887) портретные задачи второстепенны в сравнении с заботой художника передать солнечную зыбкость воздуха за окном и в комнате — на стенах, на скатерти, на мебели, на плодах, на фигуре юной В. Мамонтовой; еще сильнее проработана пейзажностью «Девушка, освещенная солнцем» (1888), как бы приравненная к стволу и листве дерева, под которым она сидит, и потому составленная из свето-цветовых бликов и пятен. В дальнейшем идут перебои: пейзажная доминанта иногда вовсе прячется, и тогда серовский портрет на короткое время принимает репинский многосторонний характер, чаще же она действует косвенно и под сурдинку, но постепенно вырабатывает приемы, которые образуют в 1900-х годах развернутый стиль серовского «субъективного портретизма». По-репински Серовым сделаны портреты Левитана (1893), Лескова (1894), Римского-Корсакова (1898), Мазини (1900), но таких изображений немного, — обычнее те, где модель все больше оттесняется самим художником, а контурность и красочность не столько выражают портретируемого, сколько берут его, как композиционный повод («Н. Дервиз с ребенком», 1888, «М. Олив», 1895, «Ф. Шаляпин», 1905, «Генриетта Гиршман», 1907, и т. п.). Серов строит людские образы до изумительности прихотливо: то оправданно сатирически («М. А. Морозов», 1902; «В. Гиршман», 1911), то необъяснимо-иронически («Горький», 1904; «А. П. Ленский и А. И. Южин», 1908; «К. С. Станиславский, 1911), то оправданно-любовно («М. Н. Ермолова», 1906), то необъяснимо-лирически («Николай II в тужурке», 1900), чаще же с холодом к существу личности и с вниманием к выразительности композиции («3. Юсупова», 1902; «Г-жа Гиршман у трюмо», 1907; «Е. Олив», 1909; «О. Орлова», 1910; «М. Ливен», 1911, и т. д.), что приводит его на финале к приемам ретроспективизма (овальные портреты в духе XVIII в., 1909—1911 гг.) и деформаторства («Ида Рубинштейн», 1910).
Этими ретроспективно-деформаторскими тенденциями соприкасался с Серовым одинокий художник огромного дарования, по и предельного эгоцентризма, крайний субъективист русской живописи, визионер, трактовавший действительность как фантазию, а фантазию как действительность, — М. А. Врубель (1856—1910; см.): таковы его портреты (С. И. Мамонтова, 1897; жены, 1898 и 1905; сына, 1902; автопортреты, 1883, 1904, 1905; портрет В. Брюсова, 1905, и др.), таковы в особенности сказочные композиции, наделенные экзотической пряностью разработки сюжета, нагромождением деталей, парадоксальной сложностью живописи и рисунка, соединением ренессансной пышности и декадентской изломанности («Восточная сказка», «Демон», 1890; «Гадалка», 1895; «Пан», 1899; «Ночное», 1900; «Царевна Лебедь», 1901); крайнее выражение эти начала нашли себе в «Поверженном демоне», 1902, «Шестикрылом серафиме», 1904, и других аналогичных работах.
Младшие художники 90-х годов соприкасаются больше с Серовым, чем с Левитаном; с последним связаны преимущественно чистые лирики пейзажа 1890—1900 гг. В большинстве они интересны скорее в совокупности, как школа, чем в раздельности, как индивидуальности. Таковы: В. В. Переплетчиков (1863—1918), Л. В. Туржанский (р. 1875), П. И. Петровичев (р. 1874), В. К. Бялыницкий-Бируля (р. 1872), М. В. Якунчикова (1870—1902; см.), С. Ю. Жуковский (р. 1873), С. А. Виноградов (1869—1938); известное приближение к пейзажным навыкам Серова можно отметить только у А. С. Степанова (1858—1912), а прямое ученичество — лишь у рано умершего С. Г. Никифорова (1881—1912).Наиболее крупный среди них всех — Я. С. Остроухов (1858—1929), но его немногие пейзажи, сдержанные и объективные (прежде всего — «Сиверко», 1890), воспринимаются, вопреки датам, как своего рода предварение левитано-серовского пейзажизма.
В широком смысле «серовское начало» преобладает в портрете и исторической живописи. Младшие портретисты обычно разрабатывают какой-либо один из приемов Серова: так, контурный прием наиболее по-серовски применяют Л. С. Бакст (1866—1924; см.), перешедший, от превосходно-жизненного, сложно-«репинского» портрета В. Розанова (1901) к изысканно-схематическим изображениям А. Белого (1907), 3. Гиппиус (1907), М. Балакирева (1907) и т. д., и Н. П. Ульянов (р. 1875), в портретах К. Бальмонта, 1905, А. Толстого, 1912, Вяч. Иванова, 1920, и др.; другую разновидность, живописный прием, по-серовски разрабатывают: в направлении «широкой манеры» — Ф. А. Малявин (1869—1934; см.), в первых своих портретах («Портрет сестры», 1899; «Портрет девочки Боткиной», 1902), хотя они уже стоят на грани жанровости и предвещают скорый переход к декорационно-бытовым композициям его «Баб»; в направлении «сухой манеры» — С. В. Малютин (1859—1938), опять-таки сменивший многогранную живопись «Автопортрета» (1901) на расцвеченно-силуэтную заостренность изображений М. Нестерова (1913), К. Юона (1914), Ал. Васнецова (1914) и т. п.
В «исторической живописи» 1890—1900-х годов «серовское начало» выразилось в общем стремлении заменить; в сюжете действенную «фабульность» созерцательной «пейзажностью». Это характерно для обоих главных представителей историзма 90-х годов, Рябушкина и С. Иванова, хотя сюжетно оба художника связаны с суриковской традицией. Для А. П. Рябушкина (1861—1904) типично изображение древней толпы в ее созерцательно-спокойном состоянии: «Московские женщины и девушки XVII в. в церкви» (1899), «Едут!» (1901) и более ранняя «Семья купца в XVII в.» (1896), — цветистые полотна, уже с явно выраженными приемами стилизма. С. В. Иванов (ср. выше) придал еще более прямую, непосредственно-реалистическую пейзажность «Приезду иностранцев в Москву XVII столетия» (1901), «Походу москвитян» (1903), «Приезду воеводы» (1907) и т. п. Особый вариант пейзажного историзма дал М. В. Нестеров (р. 1862; см.), написав серию картин на монастырско-религиозные сюжеты; однако, по существу своей художественной природы Нестеров был прежде всего реалистическим пейзажистом и портретистом («Портрет дочери», 1905, и др.), и это спасло его лучшие работы: в «Видении отрока Варфоломея» (1889—90) — чудесный среднерусский пейзаж, с большеглазым мечтательным пастушонком, довлеет себе, а фигура видения-схимника воспринимается как неуместно привнесенная; в значительной мере той же природной поэзией ценен «Пустынник» (1889) и ряд позднейших пейзажей. Наконец, у В. Э. Борисова-Мусатова (1870—1905; см.) ранний импрессионизм («Девушка с агавой», 1897, и др.) перешел в ретроспективный романтизм пейзажных композиций: «У водоема» (1902—03), «Гобелен» (1902), «Изумрудное ожерелье» (1903), «Призраки» (1903) и т. д., образующих цикл «усадебных элегий», знаменательных как уход от действительности в преддверии революции 1905 г., и получивших свое заключительное выражение в стилизаторстве художников «Мира Искусства».
Полтора десятилетия XX века — высшая точка кризиса реализма в русского искусства; это — пора гегемонии стилизма в начале и деформизма в конце. И то, и другое явилось своеобразным протестом, специфически-художественным выражением недовольства, разочарования отечественной действительностью. Это соответствовало романтико-символистическим и футуристическим течениям в русской литературе. Но в литературе, противопоставляя себя этим тенденциям, продолжала развиваться реалистическая школа, — отчасти демократический реализм «зианьевцев» и особенно социалистический реализм М. Горького; в искусстве же не было к этому времени идейно-боевого, художественно-значительного реалистического крыла: передвижничество находилось в состоянии разложения, а у московских младо-реалистов, образовавших «Союз русских художников» (с 1903 г.), гегемония принадлежала импрессионистам пейзажа, с Коровиным во главе. Даже революция 1905 г. только в единичных откликах соединила художников: Серов и несколько рисовальщиков «Мира Искусства» приняли короткое участие в политико-сатирической графике этой поры, Серов же создал келейную группу карикатур на царя и эскиз картины «Похороны Баумана», Репин спустя пять лет отозвался своей «Манифестацией 17 октября 1905 года» (1911), а больше всех, непосредственнее и страстнее, начал было поднимать революционную сюжетику С. В. Иванов, но тоже оставил преимущественно эскизы и наброски («Расстрел 1905 г.», «После расстрела», «Карательный отряд» и т. п.). После поражения революции передовые художественные круги вернулись к прежнему косвенному выражению протеста — к бегству от жизни, отказу от реализма. Даже Репин порвал на некоторый срок связь с товарищами и перешел во враждебный передвижникам лагерь «Мира Искусства», к которому целиком примкнул Серов; декоративизм захватил крупнейших из младших реалистов, — не только Ф. Малявина (неистовая красочность его «Вихря», 1906, «Бабы в желтом», 1903, «Девки», 1903, и т. п.), но даже такого жанриста-девятидесятника, как А. Е. Архипов (1862—1930; см.), проделавшего эволюцию от скромного реализма бытовых картинок («По Оке», 1890) сначала к живописно-широкой импрессионистичности («Прачки», 1901), а затем и к «малявинской» цветистости («Гости», 1914, «Бабы», «Молодицы») и т. д. Всяческие варианты декоративизма проходят и у пейзажистов: А. А. Рылов (1870—1939; см.) прельщается декоративным реализмом шведско-норвежских живописцев, идя от импрессионизма «Зеленого шума» (1906) к обобщенностям «Голубого простора» (1918) и др.; И. Э. Грабарь (р. 1871; см.) культивирует мюнхенский «декоративный пуантиллизм» («Февральская лазурь», 1904, «Хризантемы»), 1905, «Неприбраниый стол», 1907); Н. А. Тархов (р. 1871; см.) поглощен парижским постимпрессионизмом в «Бульнаре», «Козах»; К. Ф. Юон (р. 1875; см.) соединяет импрессионизм со стилизаторством в чуть лубочных пейзажных жанрах («К Троице», 1903, «Сельский праздник», 1910, «Мартовское солнце», 1915). Наконец, именно теперь проявляется импрессионизм и стилизм в русской скульптуре: импрессионизм определяет творчество крупнейшего мастера 1900-х годов, П. П. Трубецкого (1807—1938; см.), и его статуэтках и бюстах («Дама с собачкой», «Л. Толстой», «Толстой на лошади», «Витте с собакой» и т. п.), и работу его последователей: А. С. Голубкиной (1864—1927), ушедшей далее к символическому экспрессионизму («Старая», 1908; «Девочка», 1909; «А. Ремизов», 1911; «О, да!», 1913, и пр.), и И. А. Андреева (1873—1932), проделавшего обратный путь: от Импрессионистичности бюстов П. Д. Боборыкина (1903—1905), Л. Н. Толстого (1905) к монументальному реализму; стилизм наличествует у С. Т. Коненкова (р. 1874) в русских деревянных скульптурах и архаически-эллинизированных мраморах («Полевичск», «Плодородие», «Женский торс», «Мужская голова» и т. п.) и у А. Т. Матвеева (р. 1878) — в обобщенных, «глыбистых» фигурах из камня.
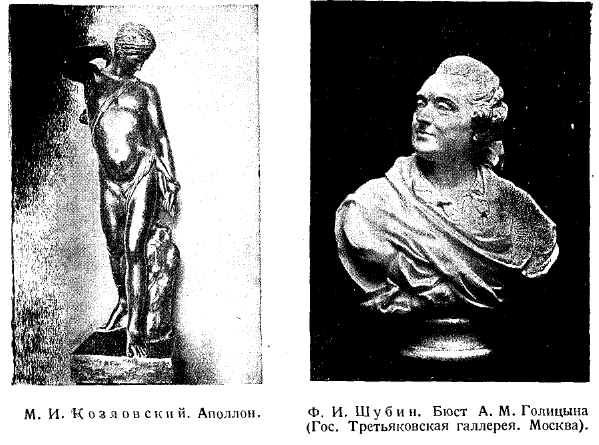
М. И. Козловский. Аполлон.
Ф. И. Шубин. Бюст А. М. Голицына (Государственная Третьяковская галерея. Москва).

М. М. Антокольский. Иван Грозный (Государственная Третьяковская галерея. Москва).
П. Трубецкой. Л. Н. Толстой на лошади.
Руководящая роль в этом движении принадлежала центральному ядру группы «Мира Искусства». Своему недовольству действительностью оно давало выход в ретроспективизме, противопоставляя мизерности настоящего красоту прошлого. С этим связаны две черты в работе «Мира Искусства»: защита памятников старины в реальной жизни и стилизаторское прикладничество в творчестве. Журнал «Мир Искусства» (1899—1904) и его сателлиты: «Художественные сокровища России» (1901—1906) и «Старые годы» (1907--1916), настойчиво предавали гласности вандализм правительственной власти и ее органов в отношении памятников старого искусства и проделали огромную работу по их выявлению и исследованию. Эта любовь к материальной красоте правового быта специфически отразилась, и но творческой работе мастеров «Мира Искусства»: они были в значительной мере «приспадниками» — иллюстраторами книги, декораторами театра, меблировщиками интерьера и т. п., создавшими в начале двадцатого века полуимитации, полу-преображения всех стилей русского прошлого и его западных соответствий, больше всего барокко и ампира, от Петра I до Николая I включительно; у начатков «идейного реализма» их симпатии останавливались. Так работали А. И. Бенуа (р. 1870; см.), К. А. Сомов (1869—1939; см.), М. В. Добужинский (р. 1875; см.), Е. Е. Лансере (р. 1875), Д. С. Стеллецкий (р. 1875), И. Я. Билибин (р. 1876; см.), Б. М. Кустодиев (1878—1927; см.), С. В. Чехонин (р. 1878; см.), И. К. Рерих (р. 1874; см.), А. Я. Головин (1863—1930), упоминавшийся уже Л. С. Бакст: и др. В их станковом искусстве эта гегемония материальной культуры сказалась в своеобразном преобладании историко-архитектурного пейзажа с людским «стаффажем», выполняемого преимущественно приемами иллюминованной графики; такова «Версальская серия» А. И. Бенуа; несколько повышается значение людских фигур в его предназначенном для школьной серии «Параде при Павле I» (1907); того же типа «ведуты» — виды со стаффажем русского XVIII в. — у Е. Е. Лансере («Императрица Елисавета в Царском Селе», 1905, «Здание двенадцати коллегий в Петербурге в начале XVIII века», 1906, и т. п.) и городские виды николаевского времени у М. В. Добужинского, («Русская провинция 30-х годов», 1907, «Ученье новобранцев при Николае I», 1910). Отсюда идут два разветвления: во-первых, бесфигурный исторический пейзажизм — у А. П. Остроумовой-Лебедевой (р. 1871) с ее гравюрными и акварельными видами старого Петербурга, Павловска, Петергофа и пр.; у Н. К. Рериха — с видами «древнерусской земли»; у К. Ф. Богаевского (р. 1872) — с измышленными пейзажами «архаической Киммерии» и пр.; во-вторых, пейзажно-исторический жанризм у Б. М. Кустодиева в русско-купеческих композициях («Ярмарки», 1906 и 1908, «Крестный ход», 1915, «Масленица», 1916), переходящих далее в огромные панно со стилизованными «Купчихами», «Чаепитиями», «Красавицами» и т. п. Особняком стоит тут единственный подлинный и блестящий живописец группы, К. А. Сомов с иронически-жанровой, галантно-эротической сюжетикой картин в традиции XVIII в. и с рядом графических портретов современников, в которых он с огромной остротой отыскивал черты старинного жеманства.
Оппозиция «Миру Искусства» началась уже с середины 1900-х годов, но она приняла вид не столько борьбы за возврат к реалистической традиции, сколько борьбы за «современную форму», в противовес старинному стилизму. Однако реалистический «Союз русских художников» сколько-нибудь идейно-принципиального влияния не получил и свелся к выставочному предприятию; мало действенной была и попытка создания мистико-символической школы в искусстве: группа художников «Голубой Розы» (1906) быстро распалась, в значительной мере поглощенная «Миром Искусства», куда вступили П. В. Кузнецов (р. 1878) и М. С. Сарьян (р. 1880) с их обобщенно-красочным ориентализмом, Н. Н. Сапунов (1880—1912) и С. Ю. Судейкин (1883; см,) с напряженной пышностью декоративной и театрально-декорационной живописи; они образовали вместе с петербургскими одиночками изобразительного символизма, как ранний Я. С. Петров-Водкин (1878—1939), молодую плеяду «мир-искусников»; частично же осколки «Голубой Розы» слились с «Союзом русских художников», — таков И. П. Крымов (р. 1884), прошедший путь от наивно игрушечного примитивизма пейзажных композиций к глубокому и тонкому реализму отражений русской природы. Радикальная борьба с «Миром Искусства» за «современность» приняла в 1910-х гг. форму трансплантации в русскую живопись французского кубизма и итальянского футуризма. Молодые живописцы первого направления объединились в группу «Бубнового Валета» (с 1909 г.) с основным ядром в лице П. П. Кончаловского (р. 1876), И. И. Машкова (р. 1881), А. В. Куприна (р. 1880), Р. Р. Фалька (р. 1886), А. В. Лентулова (р. 1882), В. В. Рождественского (р. 1884), с общим исходным пунктом — «сезаннизмом» и общей медленной и трудной эволюцией от абстрактно-пластических задач к конкретно-изобразительным. Второе направление не имело ни прочного центра, ни устойчивой линии; оно меняло наименования («Ослиный Хвост», «Мишень» и пр.), теории (футуризм, кубофутуризм, лучизм, супрематизм и т. п.) и состав участников, но в основном держалось на экспериментах деформизма и отвлеченного пластицизма у М. Ф. Ларионова (р. 1881), Н. С. Гончаровой (р. 1883), Я. С. Малевича (1878—1933), В. Е. Татлина (р. 1885) и др.; в противоположность реалистической эволюции «Бубнового Валета», эта группа шла к законченному тупику «чистой плоскостности», «чистой объемности», «чистого цвета» и т. п. Таким образом, рубеж Октября был перейден русским искусством четырьмя отрядами: во-первых, ослабленным реалистическим крылом; во-вторых, уже прошедшим через свой зенит большинством ретроспективистов; и, наконец, находящимися в расцвете двумя разновидностями «западнической школы», одной — медленно повертывающейся к жизненности, другой — стремительно уходящей в крайний формализм.
Литература. Монографическая литература о школах, мастерах и произведениях русского искусства — книжная и, особенно, статейная — очень обширна; ниже приводятся наименования только сводных источников и общих обзоров по истории русского искусства и его основных эпох в XVIII и XIX вв.
«Сборник материалов для истории императорской Санкт-Петербургской Академии Художеств за сто лет ее существования», изданный под ред. П. И. Петрова и с его примечаниями, ч. 1—3, примечания и указатель, СПБ, 1864—1887; Собко Н. П. (сост.), «Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих», т. I—III, СПБ, 1893—99; Ровинский Д. А. (сост.), «Подробный словарь русских граверов XVI—XIX в. в.», т. I—III, СПБ, 895; Успенский А. И., «Словарь художников, в XVIII веке писавших в императорских дворцах», М., 1913; Кондаков С. И. (сост.), «Юбилейный справочник императорской Академии художеств 1764—1914», ч. 1—2, СПБ, [1914 и 1915]; Новицкий А. П., «История русского искусства», т. II, М., 1903; Никольский В., «История русского искусства», т. I, [М.], 1915, и Берлин, 1923; Бенуа А. Н., «Русская живопись», СПБ, 1901 (см. издание: Р. Мутер, «История живописи в XIX веке», т. IV, СПБ, 1901); его же, «русская школа живописи», вып. 1—10, [СПБ|, 1904; его же, «Русский музей императора Александра III», вып. 1—25, М., 1906; «Московская городская художественная галерея П. и С. Третьяковых», текст И. С. Остроухова и С. Глаголя, под общ. ред. И. С. Остроухова, [ч. 1—2], М., 1909; Врангель Н. Н., «История скульптуры», М., [1909] (в кн. Грабарь И., «История русского искусства», т. V); Романов И. И., «Картинная галерея Румянцевского музея»; Врангель Н. Н «Очерки по истории миниатюры в России», «Старые годы», [СПБ], 1909, октябрь; Адарюков В. В., «Очерк по истории литографии в России», «Аполлон», СПБ, 1912, № 1; Кузьминский К. С., «Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX вв.», М., 1937; Врангель Н. Н., «Венок мертвым. Художественно-исторические статьи», СПБ, 1913; Reau L., «Histoire de l’expansion de l’art français moderne. Le monde slave et l’Orient», Р., 1924; Мюллер А. П., «Иностранные живописцы и скульпторы в России», М., [1925]; ее же, «Быт иностранных художников в России», Л., «Academia», 1927; Коваленская Н. Н., «История русского искусства XVIII века», М.—Л., 1940; Лебедев А. В., «Русская живопись в XVIII веке», Л., 1928; Лебедев Г., «Русская живопись первой половины XVIII века», Л.—М., 1938; Лебедев А. В., «Русская живопись первой половины XIX века», Л., 1929; Новицкий А., «Передвижники и влияние их на русское искусство», М., 1897; Федоров-Давыдов А. А., «Русское искусство промышленного капитализма», М., 1929; «Мастера искусства об искусстве». Избранные отрывки, под общ. ред. Д. Аркина и Б. Терновца, т. IV, М.—Л., 1937.
Абр. Эфрос.
| Номер тома | 36 (часть 7) |
| Номер (-а) страницы | 506 |
